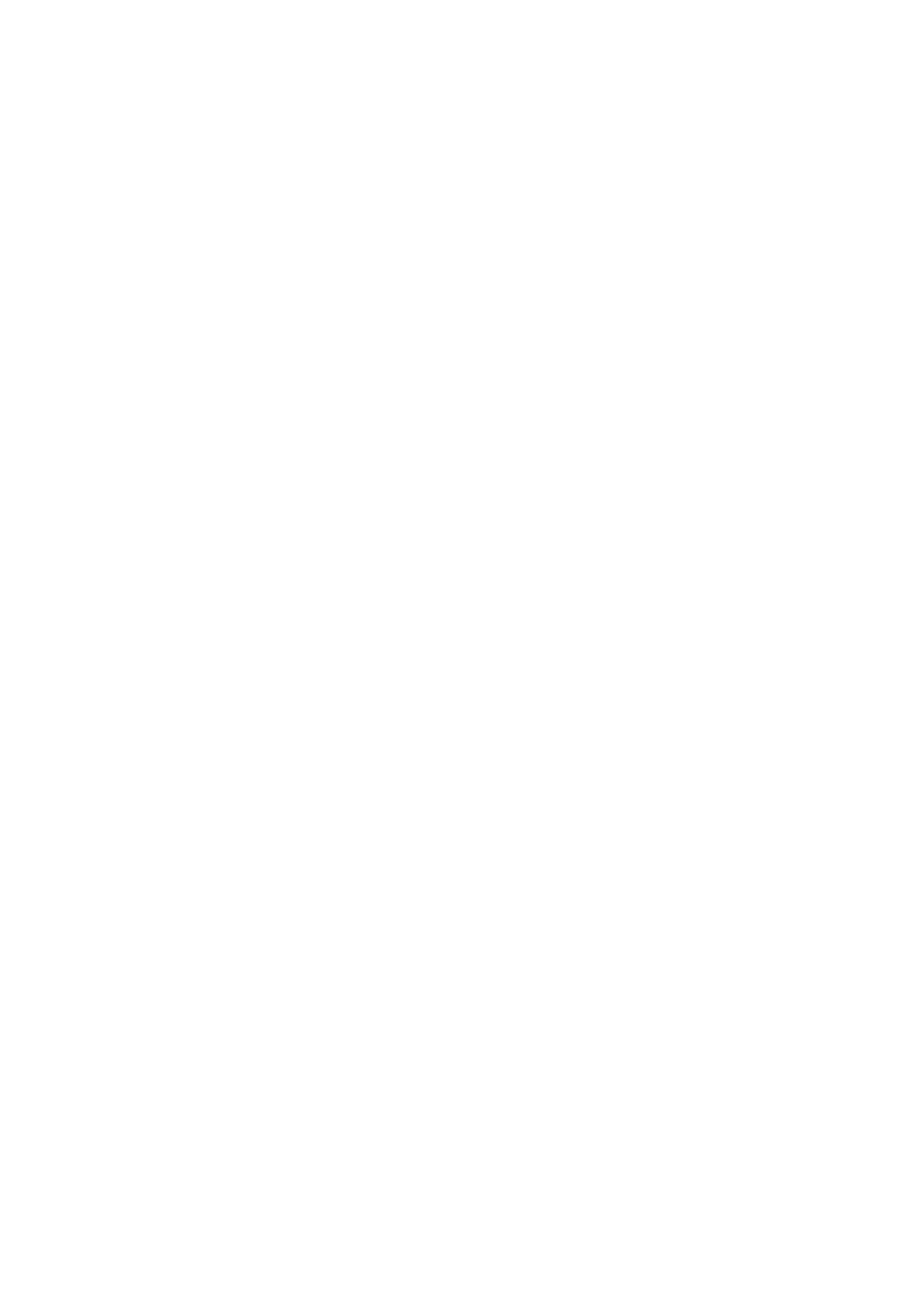СНЕГ
Немец сидел в снегу. Он был похож на памятник зимой: весь белый, в инее прилипшем, припорошенный слегка. Так иногда делают писателей, зачем им стоять, не Ленины ведь на митингах. Вот и этот сидел. Без каски, голова, побритая налысо, тоже белая. Какого цвета были его волосы? Рыжие? Кажется, на подбородке торчали рыжинки сквозь корку льда. Он, наверное, присел на корточки, опёрся о берёзку, чтобы перевести дух. И тут его зацепило, Встать уже не смог. Штык винтовки торчал из снега. Правой ноги не было, то есть был какой-то бесформенный фарш вместо неё. Как из ледника в станционной столовке. Такое же красно-белое, будто посыпанное мукой месиво. Может на мину наступил? Дополз до дерева и притулился к нему? Ждал товарищей? Не дождался. Всё замело. Не проехать – не пройти.Так в детстве у бабушки в деревне бывало. В посёлке уголь и гарь от паровозов. А там не так. Вот и здесь. Красотища вокруг белая. Чистота белизны. Белая смерть. Ничего живого вокруг. Даже деревца редкие кажутся замёрзшими. У немца руки в стороны разведены. Опирался о побеги молодые, чтобы не завалиться в сугроб. И обе по локоть в кровище, рану пытался зажать? Шинель расстёгнута. Что-то достать пробовал? Лицо вниз, в ногу смотрело. А он ведь плакал, немец-тот. На ресницах лёд. Вместо полузакрытых глаз ледышки сверкали на солнце. Раньше глаза сверкали, потом ледышки. Жалко себя было. Наверное, маму вспоминал, может, девушку свою немецкую. Интересно, она красивей Лильки? Говорят, немки красивые.
А он плакал, тут, один, а она там, далеко. Почему его бросили? Торопились? Или никого не было рядом? Все прошли мимо, кто-то даже посмеялся, а я подошёл. Зачем? Потрогать хотел, как это замёрзшая человечина? Потрогал, мочка уха сразу отвалилась. Только ещё страшней стало. Просто жутко.
Куда идём? Чтобы вот так же замёрзнуть? Неужели я таким же буду? Как мороженая рыба? И меня тоже будут рассматривать, смеяться? Потом такого же скрюченного в яму бросят, с глаз долой, чтоб весной не завонял? И не только меня. Всех. Куда идём? Навстречу смерти? И сейчас ждём, ждём её. Вот-вот вспыхнет красная ракета. Атака. Ротный засвистит в свиток, и пошли. Политрук будет махать руками, вперёд. Ротный - следить, чтобы все пошли. Наганом размахивать. Всех из окопов выгонять. Чтоб никто не остался. А то есть такие, готовые за чужие спины прятаться. И мы пойдём. А куда деваться? Мы – это здоровые молодые парни, здоровые пока. Сколько нас? Пожалуй, восьми десятков не наберётся. Ещё пять дней назад было сто тридцать пять. Иных уж нет, а те далече. Кто это сказал? Какой-то классик. Да какая разница?
Сколько сегодня останется? Если вообще останется. Останусь ли я? Где смысл? Подставляться под пули. Ни за понюшку табака нас гробят. Смысл бывает. Там, наверху виднее. Но надо же артиллерией по пулемётам! Хм. Даже не постарались. Только вид сделали. Десяток снарядов выпустили. Это ничто! Из полковых антикварных пушек. Наверняка ещё прошлый век помнят. Я такие в музее в Москве видел. Хоть бы один в цель попал. Это вряд ли. Только впечатленьице слабое произвели. На кого? Там же не ткачихи с Трёхгорки засели. С ткацкими станками и ловкими руками. Узелок на нитке стянуть. Там немцы, они больше специалисты по шейным узелкам, до Москвы нас гнали. И станки у них другие. А этот залп, тьфу. Посмеялись, может, да и только.
А где наша доблестная авиация? Сколько героев, сколько фильмов. Сталинские соколы где? Сегодня вроде и погода лётная. Только не видели её те ребята, которых мы сменили. Немцев видели. Прятались от них, наших нет в небе. «Мессеры долбили, юнкерсы бомбили. Песенку сложили. Как нас там убили». А сколько песен-то до войны пели? Сочиняли наши записные поэты да композиторы? «Там, где пехота не пройдёт, где бронепоезд не промчится. Тяжёлый танк не проползёт, там пролетит стальная птица!» Ну и? Где краснозвёздные самолёты. Где герои-лётчики? Не видать, только вороны с крестами.
На уроке истории было в техникуме уже. Капитолина Спиридоновна по прозвищу Капитанша про первую пятилетку рассказывала, как оборонную промышленность под руководством мудрого товарища Сталина создавали. Самолётные, танковые, тракторные заводы строили. У неё всегда всё правильно мы делали. Маршалов своих расстреливали тоже правильно, потому что шпионы и заговорщики. А они Гражданскую войну, между прочим, выиграли.
Тут Петька Митрохин возьми да и спроси с задней парты:
— А когда для людей что-то будет? А то одежды приличной не купить, даже косоворотки, за колбасой в Москву ездить, утренний поезд штурмом брать надо.
Как она взъелась тогда! Чуть слюной первые парты не заплевала! С физией от злости перекошенной орать стала:
—- Ты, Митрохин, ничего так и не понял! Я вам о чём твержу на каждом уроке? Мы живём в окружении врагов! Все только спят и видят, как бы Советскую страну задушить! Нам обороноспособность крепить надо! Потом твоя колбаса и косоворотки! Сначала танки, пушки, корабли, самолёты!
А Петька:
—- Танки хорошо, конечно, но их на хлеб не намажешь!
А Капитанша:
— Да ты не наш! Ты что за пропаганду контрреволюционную несёшь? Про таких как ты в органы сообщают!
Тут Петька и заткнулся, и все попритихли, головы в плечи вжали, страшновато стало, а вдруг пойдёт и донесёт? Она или ещё какой-нибудь активист. Ведь бывало.
Вот бы таких активистов сюда. Посмотрели бы на свои танки да самолёты! Ну и где эти самолёты? Где танки? Щас бы пустить парочку-тройку на немцев. Мы бы с радостью пошли! Всё не с голыми руками. За танком и спрятаться можно, он корпусом своим прикрывает. Нас даже обучали в теории, правда, как атаковать при поддержке танков. Вы только смотрите, сказали, чтобы к нему, к танку, близко немец с гранатами не подобрался. Это мы готовы! А как же, тут взаимовыручка нужна. Он нас от пуль спасает, да по немцам шмаляет всей своей мощью – пушкой да пулемётом, это вам не мосинка пятизарядная. Ну а мы его от врага бережём. Так и должно быть.
Но где ж они эти танки? Ни одного не видел за эти дни. Нет, видел два, чёрных от копоти, у самого дальнего ствол опущен вниз, механизм наводки тоже сгорел, у другого башню вообще сорвало. Это, говорят, когда боекомплект взрывается. И экипажи рядом, молодые все парни, может, чуть постарше меня, кто как, все в неестественных позах, в чёрных закопченных комбинезонах, у одного спина выгорела, другой вообще из люка не выбрался, висел там головой вниз, третий, да, чего там я, всем им хорошо досталось. А в кинохронике показывали, как они стройными рядами, десятками, нет, сотнями на парадах идут. Головы из своих громадин командиры высунут только и честь отдают трибуне. Что там все и остались на парадах? Куда подевались? Начальство охраняют. Ждут, пока до них немцы доберутся?
Здесь только конницу видели на каких-то низеньких лошадёнках. Уходили немцам в тыл. Тоже мне оружие двадцатого века. Что конь против танка? Копытом по броне? Эх! И кавалеристов угробят ни за хрен собачий отцы командиры. Без толку, бездарно. Ни за понюшку табака.
Вот в техникуме делом занимались, там вообще хорошо было, даже кормили за сущие копейки. И учёба давалась. Ну были, конечно, дураки и там, Капитанша та же. Как же без них? Но мало. Делу настоящему учились. Организация железнодорожных перевозок — это вам не семечки. Дежурным по станции работать чтобы, много чего знать надо. Поезда не должны сталкиваться. Надо их так пустить, чтобы каждый знал куда и как, по какому пути. Особенно на станциях больших, там и товарняки стоят, формируются, и пассажирские. Каждому свой путь, каждый должен в своё время выйти.
Вначале бывало стоишь в классе перед макетом, голову ломаешь, как же их развести всех, так, чтобы вовремя и без происшествий. И город другой – не Москва, конечно, но и не посёлок, как у нас. Кинотеатр настоящий, не наш дом культуры в церквухе закрытой обустроенный. Улицы широкие с деревьями специально посаженными, правильно, напротив друг дружки, не то, что в нашем парке – леса кусок отрезали, кусты да мелколесье повырубали, скамеечки поставили, и готово. Трамваи городские, на них кататься – одно удовольствие, не по утрам, конечно, когда народу туда впихивается немеряно. Нет, после занятий, рабочий день ещё не кончился, а мы уже свободны, иногда можно часок-другой отдохнуть.
Так стоишь с Сенькой на задней площадке и смотришь на убегающую вдаль улицу. Человечки, дома. Магазины. Так до кольца и обратно, кондукторши не выгоняли. Сначала ругались. Потом привыкли, и одна, и другая. Даже заговаривали в пустом вагоне. Откуда ребята, как вам тут? Мы отвечали, конечно. Как не ответить? Раз тебя не выгоняют. Та, что потолще вроде даже к Сеньке клеиться пыталась, но уж больно старая была, лет под тридцать. Должна уже замужем быть. Дак, видать, никто, не брал. А Сенька такой симпатичный парень, видный, и ростом вышел, и лицо красивое, и плечи, косая сажень. Но не поддавался он. Таньке верность хранил, хотя ничего, кроме поцелуев у них не было. Но Танька же красавица! Она осторожная, береглась. О себе думала, а вдруг ещё кто-нибудь подвернётся, да свежачка только потребует? Она так Лильке и сказала, мол, на Сеньке свет клином не сошёлся, посмотрю ещё.
Может, и правильно, но всё равно, Лилька лучше. И чего я за Танькой увязался тогда? Да понятно чего. Многие на неё западали. Глаза большие, голубые, как стрельнёт, так обо всём забудешь. Бровки чёрные, аккуратные, причёска красивая, мамаша сама ей делала. А она парикмахер лучший в посёлке. И вообще вся такая, ну прям москвичка с Садового кольца. Вот я и повёлся. Хорошо, вовремя остановился.
Матери только без меня тяжело было, пока учился. Но раз в две недели отпускали на денёк. И я старался, работы мужской по хозяйству всегда хватало. Так приедешь вечером, и с семи утра, да ещё сосед дядя Миша поможет, если одному не справится. А мать пирогов напечёт, вкуснющих, с яблоками, с картошкой, с капустой и яйцом. Щас бы хоть кусочек. Не то что концентрат из банки, и тот не всегда дают. Как она там одна сейчас? Тяжело ей, соседа тоже в армию забрали. А если крыша опять потечёт? Конёк старый, давно поменять надо было, да всё откладывал. А теперь кто наверх полезет? Ну мать и полезет, придётся, хоть и неловкая она, да высоты боится, но куда ж денется? Как-нибудь залатает дырки. Эх, дали бы отпуск после этих боёв, я бы первым делом старый конёк отодрал да новый приладил. Только кто ж отпустит?
А всё эта сволочь Артемьич! Ну почему сократили нас с Сенькой, а не его сынка с дружком? У нас ведь образование! Мы уже с закрытыми глазами составы по станции разводили. Опыта мало, понимаешь. Четыре месяца всего, а у них намного больше? Семь классов, про перевозки железнодорожные ничего даже толком не знали. Только методом тыка. Год подсобниками работали, грузчиками, и пару лет стрелки переводили, да и то под присмотром старших товарищей. Курсы они окончили трёхмесячные! Да уж, серьёзно! Опять же Артемьич подсуетился, понимал, куда ветер дует! Ну и как разнарядка пришла сократить — так сразу нас. «В связи с отсутствием опыта». Начальник станции тоже хорош, не мог отказать собутыльнику – ну и от Артемьича ему презент. Наверное, литра три самогона. Вот и подмахнул резолюцию. А ты ждёшь тут смерти, а так бы составлял поезда вместо этого недоучки блатного. Хоть польза была бы.
Сенька, ты тут? А, оправиться отходил. Ну это правильно. Кишки тоньше должны быть. Вдруг там зацепит. А лопатку сапёрную, как надо повесил? Зря что ли я её у старшины выцыганил? За ремень, лезвием вверх? Хоть живот прикроет, не от пули, нет, от осколка! Ага, правильно. Так учили опытные ребята. Которых сменяли. Морская бригада, зубры! Волкодавы! Таких на мякине не проведёшь! Всё про войну рассказали, как продержаться под огнём. Они не выжили, кабы не такие маленькие хитрости. Их хватает, хитростей. Из траншеи уползать, когда миномётный обстрел. Выдолбил себе ячейку и сиди. Землица мягкая, песчаная. Там не тронет, разве что случайно. Фашист бьёт много. У него снарядов и мин – море разливанное. Сколько хочет, не то, что у нас. Ну, где ж ракета? И принесло на нашу голову этого майора, замкомполка. Придурок. Сволочь. Чуть что орёт. Наорёт и в морду уставится. Реакцию изучает. А какая реакция? С таким идиотом не поспоришь! Я сам всё видел. Ему ротный, приказ услышав, прямым текстом: - Да, распластаемся мы все тут! Все ляжем, собирать некому будет! А он как баба базарная, визгливым таким голоском: - Ничего не знаю, есть приказ, наступать любой ценой! За неисполнение знаешь, что бывает? Немца от Москвы отогнать надо! Комроты только и буркнул в сторонку почти на ушко политруку: - Отгонять скоро некому будет! Смельчак штабной сделал вид, что не услышал и продолжал ротного глазами сверлить. Что там надеялся увидеть? Радость? Нашему лейтенанту только и оставалось, что козырнуть в ответ: - Есть наступать! Ну не идти же под трибунал хорошему человеку! Надо немцев отогнать. Умный какой! Так сам и отогнал бы. Вторым подбородком. Он такой представительный. Объёмистый. Штабные харчи не то, что наши. В бинокль-то понаблюдает, как нас немец колбасить будет. Так расколбасит, что бумаги на похоронки не хватит. Да ещё кто их писать будет? А?
Счастье мое я нашёл в нашей дружбе с тобой.
Всё для тебя, и любовь и мечты!
Мы танцуем на летней площадке в парке. Кто как может, тот так и танцует. Мы просто медленно плывём. Уже третий тур подряд. Рядом кружатся пары, кто-то пытается делать правильные шажки. Мы – нет, нам не надо. Все меняют партнёров, а мы нет. Зачем? Нам хорошо вдвоём, и больше никого не надо. Пусть бы тут вообще вдвоём остались: я и Лилька. А, ещё запах распускающихся тополиных почек. Он такой сладкий сегодня вечером, никогда не замечал. Лилька прижимается, я чувствую биение её сердца, оно вырывается из маленькой, почти детской груди. Оно рвётся ко мне, оно стучит по мне. И это так здорово. Так неожиданно, так маняще. Оно стучит по мне, и во мне тоже заколотили молоточки: тук-тук, тук-тук. Всё сильней и сильней. Я хочу, чтобы мои молоточки переплетались с её, совсем как у старинных часов. Там с двух сторон они падают на свои наковаленки по очереди. И получается красивая мелодия, и уже не слышно скучного монотонного тиканья. Такого же монотонного, как наша жизнь без этих молоточков. И грудь Лилькина сейчас уже совсем не кажется детской, она обволакивает меня. Нет, не то слово. Надо красивее – она источает тепло, жар. Он мне передаётся. Я чувствую её соски, они острые, даже немного колются.
А ведь она без лифчика пришла! Специально? Ну не могла же забыть! Меня аж затрясло. Я бы хотел увидеть, поцеловать эту грудь, но как? Не здесь, не сейчас! Вокруг же люди. Что подумают, да и Лилька, она тоже не из тех, доступных с сортировочной, что с проводниками за мешочек астраханских помидоров. Да и куда уходить? Здесь так хорошо, мне и ей, нам двоим. Интересно какие у неё соски? А вообще какие бывают соски? Я случайно видел у матери, они совсем мне не понравились, большие, тёмные, раздавленные какие-то. На картинах в музеях они совсем другие. Но там и женщины другие. Как нынче в моде, особенно у современных художников, что спортсменок рисуют. По жизни-то таких меньше, на наших харчах не особо разъешься. Вон и Лилька – невысокая, худенькая, миниатюрная с маленькими грудями. Маленькими, можно сказать, до сегодняшнего вечера. Как здорово ощущать их на себе, припаянными к своей груди.
У Лильки только ноги покрупнее, чем должны быть. Так это удобно. Вот и сейчас моя рука медленно, но верно сползает с её пояса. А Лилька? А она ничего, лишь сильней прижимается и, подняв голову, смотрит мне в глаза. Ух, целоваться нельзя, за это в прошлый раз милиционеры выгнали с площадки одну парочку. А рука не останавливается, её в полутьме никто не видит. Или делают вид, что не видят. Лилька, что, специально оттащила меня в самый тёмный угол? Свет от фонаря при входе сюда не добивает.
Ещё чуть-чуть, и что там под юбкой? Сейчас доберётся моя рука. Юбка свободно болтается на Лильке. Вот, вот резинка от трусиков, пальцы пролезли дальше. Вот, ух! А почему меня аж передёрнуло? Это же совсем другое! Сладострастие, такое оно? Наконец-то! Ой, а у неё гусиная кожа там.
А ниже там, ниже, заветное.
Нет, нет, что я, не здесь, не здесь. Соседняя пара уже косится, засекли, куда залез. А Лилька молчит, только по-прежнему пристально смотрит. И глаза её блестят в темноте. Преданно глядит, как собачка во второй семье отца.
Стоп. Выдыхаю. Пора остановится. А где?
Что? Музыка кончилась? У оркестра пауза, перерыв, а мы всё в нашем танце? Сенька и Колька смеются, пальцами на нас показывают. Дураки. Знали бы они, как это всё. Молоточки стучат, а в нутре всё опускается ниже, ниже, а там, где ниже, наоборот. Лилька заметила. Но мне не стыдно, никакого конфуза нет. Да я голый ради неё пройду по соседскому двору! Не по улице, конечно, там сразу повяжут. Бабки милицию вызовут. Те чикаться не станут. А так я готов. «Всё для тебя!»
Но пора отцепляться. А то, правда, только испортим. Лилька ты как? Отвечают глаза: «Я не здесь. Я с тобой!» Я тоже. Моя рука неохотно возвращается в первоначальное положение на Лилькиной талии. Обидно, там было лучше. И Лильке тоже.
Перерыв таким длинным показался. Мы молчали. Я Лильку приобнял слегка, так, чтобы внимания сильно не привлекать. Но левую руку высоко положил, ей под грудь прямо и чувствую: стук-стук, стук-стук. Как хочется впиться губами в этот стук-стук! Подошёл Сенька, что-то булькнул, ерунду какую-то. Я даже отвечать не стал, только рукой махнул, мол двигай, друган, потом. А потом был фокстрот. Зачем? Никто толком не умел. Какие-то поползновения на танец. И не прижмёшься. И все движения надо знать. Танцоры наши поселковые сбивались, только одна незнакомая пара уверенно двигалась: вперёд-назад, вперёд-назад, в бочок, ручки разведя, а потом ножку девушка приподнимала, облокотившись о руку партнёра. Красиво. Умеют, наверное, из Москвы приехали класс показать пригородным. Дуракам заводским да станционным. Танец не для всех. После работы в кружок надо ходить, учиться, чёрт знает, сколько времени, если ещё кружок в клубе есть. А хочется без кружка.
Хочется так, прижать её, да без лишних манер чтобы.
Кончился наконец этот дурацкий фокстрот. Ждём, что дальше. Сможем опять с Лилькой пообжиматься. И вот после фокстрота неожиданно...
Ну скорей бы уж! Хуже нет, чем ждать. Ждать её, хозяйку, смерть. Думать, надеяться, может опять пронесёт? А может слегонца заденет. Вот это лучше б всего. Резанёт в мякоть бедра, подальше от важных артерий. Хотя почему? Можно и в косточку. Так дольше в госпитале пролежишь. Там тепло, кормушка хорошая. Медсёстры добрые. Лилька тоже сейчас в медсёстрах. Она кого-то пожалеет, ну по-доброму, как сестричка, меня другая. Нет, в кость не надо, до своих не доползёшь, тут, на этом чёртовом поле и околеешь, в сосульку превратишься. Хрен с ним, пускай лёгкое ранение, авось и так дальше медсанбата увезут. Чтоб грохот этот противный не слышать, чтоб глаза не закрывать от страха, не вздрагивать от взрыва, чтоб не бомбили. А Сенька предлагал: давай, мол, под шумок друг другу стрельнем в мягкие части, и свалим отсюда под это дело. Не-е, так нельзя. Нечестно. Кабы все так делали, немец бы уже на Урале нашу кровушку пил. Вот майора того, гниду, подкараулить где-нибудь, да на фашистов свалить, это да. Нет, самострелом не стану, будь, что будет. Как в глаза потом людям глядеть. Да и был уже один у нас такой, после первого боя, когда ко второму готовились. Придурок, через бинт в ладонь. Сразу вычислили. Дураков нет. Где спросили первый патрон из магазина? А он ещё и гильзу выбросил подальше. В кого стрелял, в себя? Приехал из дивизии конвой и увёз. А на следующий день нас отвели с позиций, построили за лесочком, и его прямо перед строем. На колени падал, плакал, умолял. Да что там! А ведь тоже активный был, вызывался газеты читать на коллективных читках ещё, когда формировались. Слова правильные говорил. Вот договорился. Его даже хоронить не стали, так и бросили в кустах. Там глина замёрзшая была. Кому охота её долбить для такого.
А мама писала: с их работы один мужик вернулся, под чистую комиссован, а вроде как здоров. Дрова колет, мешки с почтой таскает, хоть бы хны, только прихрамывает чуток. Говорит, повалялся два месяца где-то за Владимиром, и отпустили. Вот меня бы так. Лилька бы и хромым приняла. Какая ей разница! Мне ж не на сцену выходить! А в хозяйстве я всё могу, в доме всё делал, мать только на кухне да с бельём. А остальное — я. Даже печку класть намастырился, когда отцу Сенькиному помогал. Потом свою перебрал, а то дымить стала. Мать нарадоваться не могла. А как же – в посёлке только три двухэтажных дома, а так все по своим избам.
Эх сейчас бы в избёнку тёплую. Сержант добавляет: «да бабёнку лёгкую». Нет, мне такая лёгкая не нужна. Зачем? Меня Лилька ждёт, она ведь только меня ждёт, только со мной была. Не забыть это никогда! Так, наверное, уже никогда не будет, даже, если выживу.
Счастье моё я нашёл в нашей дружбе с тобой...
Тогда этот романс по второму разу запустили. И правильно! Он всем нравился, и мелодичный, и слова хорошие, добрые, и прижаться поближе можно. Рука снова с Лилькиной упругой поясницы сползает ниже. Молоточки опять забарабанили, сердчишко стучит, вырваться из груди хочет. И Лилькино тоже колотится, она аж трясётся вся. Ну так больше нельзя, мочи нет терпеть. Ждём, когда наш танец кончится, чтобы уйти по-тихому, а то ещё Сенька с Колькой поволокутся вслед. Им-то чего, всё равно делать нечего. Танька Сенькина в Москву, к тётке, уехала, а у Кольки нет никого. Он боится инициативу проявить, даже Вальку толстуху пригласить и то слабо, она бы не отказалась.
Ой рука моя опять творит дела у Лильки под юбкой, ой остановится надо, а то беда, беда. Позор это ж какой, прямо на площадке, да нас не пустят больше, а на Лильку пальцем показывать будут. Ну как же отцепить её, а у Лильки опять мурашки, наверное, повсюду, не только под моей ладонью. Кожа у неё нежная, мягкая, а сейчас чуть колкая, и это тоже очень приятно! Ну вот и последние слова, наконец-то, отцепляюсь потихоньку.
Счастье моё – это радость цветенья весной,
Всё это ты, моя любимая, всё ты!
Точно сказано! «Лилька, ты всё для меня!» — шепчу ей и тяну ближе к выходу. Она не отказывается. Мы без слов понимаем друг друга. Лилька даже сильней жмётся ко мне, бёдрами цепляется и правым соском постоянно тыкается мне в спину. Скорей, скорей его ощутить не здесь, не при всех. А на площадке всеобщее возбуждение, гомон, хохот, кто-то уже сам начинает петь. Всем хорошо, ну или почти всем. На нас не обращают внимания. Мы проскальзываем мимо контролёра, он, наверное, удивлён, танцы ещё два часа идти будут. «По старым билетам не пущу!» — кричит вслед. Ну и не надо, нам вдвоём лучше, даже не сравнить.
Скамейка около стенда с газетами, вот, нам туда, сейчас темно, последние новости уже давно прочитали. Тащу, не, не тащу, она сама туда летит, как на крыльях. Лилька даже не спрашивает куда, просто ещё крепче жмётся. Я её обхватил за пояс, она этим воспользовалась и прильнула всем телом, как смогла. Правый сосок как будто мне кожу проколоть хочет, а там ребро. Рукой его подправляю. Так лучше, мягче. Боже, я ведь пальцами за комочек этот упругий её взял. Это же ни с чем не сравнить! Молоточки крушат всё внутри. Моя рука опять полезла ей под юбку. Там так жарко, откуда Лилька в тебе столько жара? Пылаешь, как печь хлебная, к ней не прислониться, а у тебя другой жар, влекущий. В него хочется окунуться и остаться в нём, пока свой жар не иссякнет.
Чёрт! Скамейка занята, там тоже одна парочка. Целуются, встрепенулись, когда нас увидели. Да что мы вам сделаем, целуйтесь. Нам бы только себе местечко найти. А то невтерпёж уже. Где же пристроиться, где впиться своими губами в Лилькины тонкие, четырьмя крючочками-запятыми, как у куколки, губы. Раз запятая точкой вправо, к ней пристроилась зеркально ещё одна. И так же нижние. Такие, как у моей детской игрушки, неваляшки, будто специально кто-то нарисовал.
А, вон там около детской песочницы есть ещё одна скамейка. Дети в этот час уже дома спят. Почти бежим туда. Вдруг ещё кто намылится. Парочек немало обжималось на площадке, да из посёлка, может, кто завалится. Никого! Только для нас! Только мы одни тут! Даже не успеваю оглянуться на всякий случай по сторонам. Лилькины губы уже тут, прямо перед моими. Ох, это так сладко, почему мы раньше не целовались? Позавчера, например, ходили по парку, как два дурака, «Сердца четырёх» обсуждали. Зачем? Ведь уже тогда всё понятно было? Последнего вечера ждали.
Завтра по распределению уезжать. А там не будет этих губ! Ой. Не могу оторваться. Руки под Лилькиной блузкой работают, хорошо ещё лифчик не мешает. Это она удачно придумала. Смелая! Увлекаю её на скамейку, не расцепляясь, мы сейчас одно тело, переплетённое всё. Уух, минутная пауза, воздуха набрать в лёгкие. Блузка расстёгнута. Всё! Доски впиваются в мою спину. Рубашка расстёгнута. И я чувствую кожей только её и аккуратные тёплые мячики. Так вот они какие Лилькины груди, остренькие, упругие, как две груши маленьких. Накрыл одну грушу своей ладонью. У—ууу, уже не молоточки, молоты бьют по наковальне! И её глаза, такие блестящие при свете луны, такие доверчивые и в них столько любви, любви ко мне! Руки её обвивают меня, мне некуда деваться от этих колючих сосков, они впились в меня, пробили насквозь. Не могу вырваться, я впечатан в скамейку. Вот как я чувствую её.
Губы опять слились в новом поцелуе, таком же бесконечным, как и первый. Лилька вся моя, её тело – моё тело, оторвался на секунду спросить глазами: «Здесь? Сейчас? Не страшно?» Ответила её грудь: «Здесь! Сейчас! Не боюсь!» —отвечает всё: грудь, губы и голые ноги с задранной юбкой. «Здесь!»
Что? Вот, свисток, встаём! Протяжно свистит.
Этот свист у нас песней зовётся. «По долинам и по взгорьям». Сочинители. «Шли дивизии вперёд». Небось в глаза пулям не смотрели. Не слышали их свиста. Жуткого, душа не в пятки, ещё ниже уходит. Долго поднимается рота. Ох, не хочется туда, на снег. Все понимают – на убой. Немец подождёт чуток, а потом как начнёт шмалять. Один за другим будем укутываться белым саваном, Никому не хочется, даже ротному. Но работа такая у него – людей на убой водить, и самому туда же. Хоть честно, не как тот, припёрся, наорал и шмыг, к себе. Подальше от немца.
Бежим. Да как? Снег глубокий! Ноги вязнут! Ага, увидели. Сразу, пули нырк-нырк. Страшно. Вот Сашка упал из соседнего отделения, вот Митька – навзничь. Готов, значит. Но бежим. Проваливаемся в снег. «А-а-а!» — только раздаётся. Да пулемёт с той стороны строчит. Снаряды стали рваться. И маузеры хлопают, шлёп-шлёп. Мимо, мимо. Пока мимо, пока. Вот Сенька зашатался, за голову держится. Пули всё не устают, шлёп-шлёп. А, вот она моя – шлёп. Больно то как, на ногах не удержатся.
Рёбя, почто так больно? Мама, больно мне.
А снег мягкий. Лежать хорошо. Только больно. Глаза смыкаются. И боль, и холод. С ногами уже давно не порядок. Передвигал ими как ступками. Теперь и это не нужно. Только холод и боль. Ну, спать, всё, хочу спать, но как болит, зараза. Всё. Больно и сонно. Снег, боль, кровавая лужа в глазах.
И холод, холод, он повсюду, даже в печёнке, в горячей печёнке! Ждать, ждать… А до заката ещё часа три. Много. Очень много. Особенно, когда шевельнуться больно. Когда каждый вздох причиняет боль. Страшную боль! В груди. Её разрывает. Она захлёбывается. Ей тесно. Тесно в толстом панцире кожи. Она, оказывается, такая толстая! А мама говорила: «Какая у тебя прозрачная кожа, сынок, как шарик воздушный, твоя кожа, через неё видно всё. Жилки, суставчики и косточки». А она толстая, толстая, как у жабы с толстыми пупырышками. Она прижимает боль. Ту, внутри, где пуля засела. Одна? Кажется, две. Глубоко засели, в лёгком и выше. Дышать больно.
Боже, как больно! Да если есть ты на свете, зачем дозволяешь это? За что? Что я сделал такого? Я ведь ничего плохого не делал. Ну, разве так, иногда, не по злобѐ. Так с кем не бывает? А мне за что эти мучения? И жизнь, за что жизнь отбираешь? Ведь санитары не приползут раньше темноты. А и приползут, кроме меня, сколько ещё попадало? Дотяну? А кровь остановилась? Или сочится? Если сочится, то хана. Не дотяну. Руку не поднять. Не донести до ватника. Свинцом раскуроченного.
И зачем эта дурацкая атака? Полроты положили. А? Зачем? Идиоту было понятно, что так, с кондачка не взять эти домики на краю деревни. Немцы там сейчас шнапсом наливаются и веселятся. По полю постреливают, так, на всякий случай, чтобы не дёргались пацаны. Те, кто ещё может дёргаться… Сколько, сколько ещё? Много. Сеньку только зацепило? Или совсем?
Ха, как мы тогда из-за Таньки поругались. Да, было бы за что. Не стоила она ни копейки нашей дружбы. Красавица, да, ну так и только. А в душе-то что? Вон Лилька, она совсем другая, она и помогла помириться. Привела меня, дурака, к Сеньке домой.
Лилька, где ты? Лилька?
Ой, как больно, а он, Сенька, теперь, может, уже и не дышит. А я дышу, пока дышу. Только бы санитары успели. Как умирать не хочется!.. Нет, надо всё же проверить, идёт кровь или нет. А зачем? Что это изменит? Изменит, в кармане индпакет, специально из вещмешка вытащил. Надо пощупать, что там у меня. Ой, не получилось. Сразу в плече стреляет! Так, ещё раз. Опять. Ещё, ну, чуть-чуть. Так, на животе. Тут всё в порядке, выше, выше. А вот. Мокрота. Голову чуть приподнять. Так, шея работает. Ага, ну да, рукавица в крови, в свеженькой.
Когда же ночь? Почему так долго ждать? И холод, холод, пальцев ног нет, не чувствую. Плохо, плохо. Ноги отнимут, как пить дать отнимут. Да ладно, лишь бы вытащили. Ой, мама, как мне плохо, плоххххоооо!
За что?
Где это всё? А, да, деревня Кони. Странное название. Кони. На конях оно быстрее. Что быстрее? Всё. Ой, где я? Да, надо бинт приложить. Надо. Как? Руку не сдвинуть с груди, а вот, получилось. Теперь в карман. Как? Её ещё согнуть нужно. Никак. Никак. Ладно, санитары перебинтуют…
Свет, откуда такой яркий свет? Это кто? Ты кто? Молчишь? Хорошо, будем молчать. Только бы успели. А, успеют? Как думаешь? Нет? Почему? Почему не успеют? Свет, очень яркий свет. А нужна темнота, темнота, тогда вытащат.
Как не хочется умирать! Не хочу быть мороженой рыбой!
Мама! Ты здесь? Ты поможешь? Хорошо, буду ждать. Ждать. Сколько? Не знаю.
Свет всё ярче, вспышка, как у старых фотоаппаратов, вспышка магния. Перестало болеть, а свет всё ярче, может доползу? До Лильки доползу, до мамы. Пробую.
Я ползу? Нет. Нет, никак, не могу. Хочу, но не могу.
Что же это? Пусть так, дождусь.
Потому что я должен жить!
Потому что я – это я! Я один такой во всем белом свете, и я должен жить!
Свет, уберите этот свет!
Пить, очень хочется пить. И тепла, уже не только пальцев на ногах не чувствую. Совсем плохо. Но живут же люди без ног. Без ног. Сосед вот всю жизнь, с японской войны, обувь тачал в креслице на колёсиках, и ничего.
А ты кто? Сосед? Не, он от водки помер. А я не умру, я буду жить. Буду, да, наверное…
Опять этот яркий свет и снова вспышка, откуда, что это?
Смерть? Она? Уже? Так рано? Когда же ночь? Но-о-очь? Когда? Боль, опять. Кто это? Опять ты? Лилька!!! Это не ты? Ты где? Это кто, ты зачем тут?
А, ты смерть? Ты белая? Как снег? Ну, я согласен, Я всё равно мороженая рыба в ватнике. Бери меня, уходим. Там болеть не будет. Бери, я с тобой… Всё, ухожу! Да, постой, одно забыл сказать, щас, сил наберусь, вдохну, вот:
— Лилька, Лиииилька, я там тебя подожду!
Смерть, теперь всё! Бери же меня, я с тобой, ухожу!
Счастье моё я нашёл в нашей дружбе с тобой!
Всё для тебя и любовь, и мечты!
Счастье моё – это радость цветенья весной.
Всё это ты, моя любимая, всё ты!