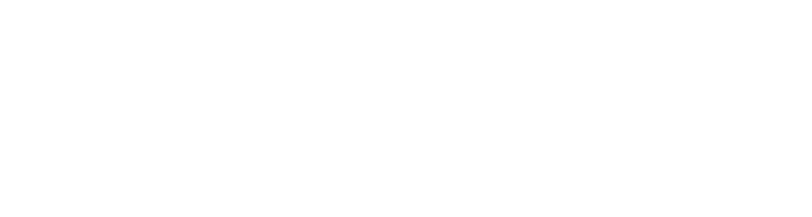
Территория современной словесности
третий выпуск
Стороны света
Алексей Виноградов
МОТЫЛЕК
А потом пришел взводный Лямка и держал пламенную речь:
– Яйцеголовые ученые придумали такую суперхрень, чтобы читать мысли у людей. На прямой войне, к примеру, это штука бесполезная, там что – бей да коли, кто там перед тобой, неважно, а тут дело тонкое, надо же своих не задеть. Все же внутренние войска.
Лямка прохаживался вдоль шеренги и внимательно наблюдал. Взвод стоял навытяжку.
– Так вот, – продолжил капрал, – нужен доброволец. Яйцеголовые покопаются в мозгах, делов-то. Ничего там, в мозгах, не пострадает. А даже если и пострадает, – Лямка заржал, – вы по любому безголовые, так что на хер вам этот орган. Так-то. Всем вольно, – подытожил он.
Взвод расслабился, парни переминалась с ноги на ногу. Никто не вызывался. Приятель мой Вьюрок – первый справа в шеренге на построениях – толкнул меня в бок и просипел:
– Яйцеголовые дела не придумают, ну их на хрен, знаем-знаем.
Лямка прошелся туда-сюда еще раз, пообещал доппаек. Потом выложил козырь:
– А еще кое-кто может пойти в увольнительную...
Тут уже шагнул вперед я – в шеренге второй справа. Вьюрок попытался меня схватить за рукав, но впустую. Если мне что втемяшилось в голову, то все, пиши пропало.
– Рядовой? – торжественно выкрикнул капрал, рванув ко мне. – Ты готов? Твой номер?
– Так точно, – отрапортовал я. – Код 6054.
– Отважный говнюк, – резюмировал он, оглядев меня сверху донизу. – Послужишь пятому фему. Полчаса минут на сборы. Всем разойтись.
Все и разошлись.
– Идиот – бурчал Вьюрок уже в казарме, забирая мои игральные карты.
– Овощам, – говорит, – они ни к чему.
– Зачем вызвался?» – спрашивал Вьюрок.
– Маму повидать» – отвечал я.
Вьюрок молчал и больше ничего не спрашивал, сидел на койке, поглядывал, как я вещи собираю.
Лямка давно уже обещал, как потише будет, увольнительную дать. Но потише все не наступало. Из-за этих уродов западников я даже маму повидать не могу. Она скучает, наверное. Поначалу я писал ей, ответы приходили нечасто, но аккуратно – мол, живу, не тужу, все по-прежнему. Месяц назад на окраине фемы самодельным фугасом мне правую руку оторвало, доктора присобачили механическую – крошить зубы в самый раз, а вот писать – никак. Я попробовал, конечно, левой рукой накарябать хоть пару слов, но толку то… Не прочитаешь. Ну, я и попросил Вьюрка под диктовку написать. Про то, что руку потерял, мы, конечно, писать не стали. С той поры мама не отвечала.
Вообще, я до армии неуклюжий и тощий был. Но попал во внутренние войска. Откормили меня тут как надо – белок, овощи, таблетки всякие. Только с памятью что-то стало, вообще не помню лиц. Ну, почти. Вьюрок говорит, это от таблеток, что дают в казарме. То есть, я знаю, что люди в моей жизни были – до тех троих, что забривали меня. Но они какие-то бесплотные, дымные, растворяются. Ловлю память, а она ускользает – и вместо лиц вижу только нежно-бежевые пятна, пустоглазые, безносые, совсем гладенькие; чувствую только их присутствие рядом – от мамы, допустим, веяло теплом, весенним, таким слегка солнечным, и это ощущение осталось со мной. Еще вот шарф ее помню. И как забривали, помню. Меня баба забривала, офицерша Фитц. Легендарная личность в Пятой феме. Потом ее, кажется, списали, кончила она позорно, в психушке для ветеранов – Вьюрок говорил. Хотя он языком чесать мастер, может и придумал. А забривали меня… э-э-э… двенадцать лет тому назад. Что я помнил? Да мало чего. День как день. Сижу за кухонным столом, книгу читаю. Смотрю в окно. Солнце низкое. Стена дома напротив – выбеленный силикатный кирпич, пустая улица – время рабочее, ну и серая пыль на снегу, она тут годами копится, поблизости шахты, вся дрянь летит в поселок. На кухне мама со мной. Странное дело – я вот даже лица ее вспомнить не могу. Шарф ее помню, а лицо не помню. Только шарф. Что-то она там трет на кухне – может, картошку для лепешек – спиной ко мне. И вдруг – тук-тук. Бах-бах. Рекрутеры входят без стука, в полной амуниции – двое столбами остаются у дверей, чтоб не сбежал, а третья – офицерша Фитц – шагает на кухню. Глянул я исподлобья на ее рябое мякинное лицо и понял, что все, пипец – и ничего такого уже не избежать, со страху вцепился в обложку, аж костяшки пальцев побелели, но вида не подал, снова в книгу уткнулся. Круглолицая офицерша, широкие плечи и узкая задница, вытащила из планшета замусоленные листочки бумаги – адрес был последним в списке, пролистала.
– Восемь лет… Ага. Так. Покажи-ка зубы, рекрутенок.
Я аккуратно отложил книгу, поднял лицо, открыл рот. Она наклонилась, внимательно взглянула на зубы, зачем-то надавила пальцами в районе горла, там, где гланды, и покопалась в волосах:
– Вшей нет, вроде здоров. Вшивые пятому фему не нужны – гоготнула она и подмигнула: – Тощий-то какой, а! И кожа тонкая, аж светится вся. Как крылья у мотылька. Ну ладно, мясо у нас нарастят. Давай, на выход.
Мать перестала тереть картошку, но даже не обернулась. Почему так? Я не знаю. Может, просто не хотела видеть, как меня забирают. Я никогда не видел, чтобы она плакала, может и сейчас не хотела, чтобы видел? Я сполз со стула. Офицерша по-хозяйски осмотрелась, подобрала недоеденный бутерброд с тарелки, сунула в огромный зубастый рот и, чавкая, подтолкнул меня в спину к тем двум столбам, в прихожей. Рюкзачок уже стоял у двери – мама собрала с вечера. Мы же знали, что военные придут, и уже все обсудили. Мама говорила, что так лучше – и еда, и крыша над головой всегда. Еще она говорила, что это ненадолго. Ну да, кивал я.
Отец? А что отец? Отца я не помню – он погиб на границе фемы, когда мне было два года. Мать ничего не рассказывала про то, только одно сказала: западники растерзали его, как звери. Тот еще был служака. А мы и жили с мамой вдвоем на скромную ветеранскую пенсию.
Я взвалил рюкзак, еще раз поглядел в сторону кухни – мама смотрела в окно. И я видел ее шарф. Больше ничего. Только белый шарф. На нем такой странный узор – женщины тянут руки к небу и лошадки с пушистыми хвостами. Такой мирный, тихий: женщины и лошадки. Вот почему-то эти фигурки я запомнил, а мамино лицо нет.
Руки у меня были длинные, ноги тоже, – я уже говорил – тело тощее, ребра выпирали. Я много читал, но сейчас не помню, о чем. Читать лучше было украдкой, не то, чтобы в Пятой феме это было запрещено, но не поощрялось. Все говорили, что книги на шахте не нужны, толку в них ноль. Все смотрели телевизор. Но я читал. Много. Не помню, о чем, но читал. А как забрили – и читать перестал. Некогда. Война ведь. Хоть и подлая, скрытая.
Вот уже столько лет агрессоры с Запада пытались захватить нашу горячо любимую родину, организовывали диверсии. Они подонки, им там все неймется, баламутят наших граждан и требуют, чтобы великий порядок завершился, и Архонт сложил свои полномочия. Но Архонт – наш парень. Он любит свою родину, и покуда эти паскудники баламутят воду, ни фига он не уйдет. В последние дни бесчинства усилились, недовольные вышли на улицы. Но для этого есть мы. Мы быстро наводим порядок. Щитом опрокинул, дубинкой по ребрам – и поговори теперь, голубчик, о западных ценностях. Мигом зубы выбьем, шепелявить будешь. Раньше, говорят, лет двадцать тому назад, наша Пятая фема была тихим местом, в основном с Запада дрянь всякая лезла. А тут… Ну, вы поняли.
О чем это я? Ах, да. Собрался я, с Вьюрком по-братски обнялся, явился к взводному Лямке. Повезли меня в больничку. Ладно, думаю я. Была-не была. Терять нечего, а так хоть маму увижу. И Пятому фему еще послужу.
Три дня меня слушали, простукивали, присоски всякие ставили. На четвертый день положили в каталку, повезли. Я, конечно, очканул, как двенадцать лет назад, когда офицершу Фитц увидел. На фига, думаю, я в это дело ввязался? Потом они маску на меня надели, все поплыло, хорошо так стало… Ладно, думаю. Хрен с вами.
Очнулся, спрашивают сразу: номер жетона, войсковая часть. Я ответил четко. За дурака, что ли меня держат? Они закивали, медсестры снова на каталку меня взвалили, повезли в палату. Лежал еще три дня. Ел от пуза, спал – иногда новости по телику смотрел, там все про западников, как они распоясались. Вот, думаю про себя разное, мол, стоило Мотыльку из роты уехать, как они и распоясались.
А потом… Снова всякие присоски, провода, сажали напротив меня разных людей, спрашивали, о чем они думают. Я тужился, слушал, но так ничего и не выходило. Хрен их знает, говорю, о чем они думают». Снова присоски и провода, уколы всякие. Бились они почти месяц, но я так и не стал слышать людей.
– Время потеряли, – говорит их главный.
Он всегда в незастегнутом белом халате, накинутом прямо на китель. Звездочки полкана я, правда, рассмотрел.
Второй, суетливый такой, с лысиной, небольшого росточка, отвечает:
– Время не имеет значения. Совсем не имеет. Для нас, опоры и надежды Восточного протектората, нет ничего более бесполезного, чем время. Поэтому вот что попробуем, – и обращается ко мне: – У тебя, сынок, родные есть?
– Есть, – говорю, – мама. Лямка обещал, что после испытаний меня к ней отпустит на побывку. Ага.
Смотрю, у лысого глаз загорелся, и он полкана в сторону отвел, они о чем-то шептались, на меня поглядывали, слышу только: «…стрессовая ситуация… под наблюдением... Возможно, воспоминания детства». Ну, побазарили, а потом он ко мне подходит: ну ладно, пока свободен, рядовой, увольнительную получишь, отдохнешь, а там смотреть будем. Спасибо, сынок, и все такое. Родина не забудет.
Я аж заулыбался. Выписали меня, слава Богу, и овощем не стал, как Вьюрок обещал. Башка варит вроде. Прибыл я в часть под вечер, с приятелем своим Вьюрком по-братски обнялся, в картишки перекинулись. Вьюрок проигрался вчистую, потом говорит:
– Ты ж мысли мои, сволочь, читаешь, потому и проиграл я.
– Эх, – говорю, – брат, крутили там меня вертели, а мысли читать так и не научили. Так что не при делах я. Вот так.
Потом меня капрал Лямка к себе вызвал, уважительно так разговаривал, выписал документы – послезавтра отбываю на неделю, мол, поздравляю. Руку пожал.
Отбой случился, заснули все. А я лежу, в потолок смотрю. Надо же думаю, как все повернулось. Вроде ничего не получилось, а вон смотри-ка – капрал руку жмет, в отпуск наконец отправили. Чудно так. Под утро уже вдруг – завыло все, по тревоге поднимают. Я подскочил, сбрую нацепил быстро, – не спал же.
Построились. Светало. Лямка в полной амуниции опять держал пламенную речь перед шеренгой: нет у нас иного правителя, кроме Архонта, и мы солдаты его. Нет у нас иной родины, кроме Восточного протектората, и мы сыны его. Нет у нас иного командира, кроме капрала Лямки, и он, капрал Лямка, приказывает выступить на смежную территорию. Эти подонки западники, используя несознательность некоторых граждан нашей Родины, собрались с силами и собираются идти войной на Пятую фему – по данным разведки, будет их около десятка тысяч. Вьюрок прошептал: «Ни хера себе», – а шеренга заметно зашевелилась.
– Смирно! – заорал Лямка, – не ссать кипятком. Быть бдительным и неумолимым к врагам Восточного протектората – запомните, говнюки. И все получится. Ну с Богом, – вдруг как-то выдохнул капрал, махнул рукой и дал команду грузиться.
Шеренга рассыпалась, побежали к грузовикам. Я оглянулся только – а капрал все так же стоит на плацу, понуро и совсем не по-молодецки, как ранее – глядит, как мы грузимся. О чем он там на самом деле думал – хрен его поймешь, ну и ладно. Прыгнул я на борт, сел на скамейку, автомат на коленях пристроил и закемарил.
День тот помню смутно. Ехали очень долго по шоссе. Танки обгоняли – то мы их, то они нас. Я вполглаза смотрел. Наконец, встали у какого-то поселка. Стали с борта высаживаться – я с краю сидел, первым выпрыгнул. Выпрямился, потянулся. Еще пара солдат за мной выскочила – Вьюрок в глубине сидел, и чего-то он там замешкался. И тут так протяжно взвыло что-то, как шандарахнет – меня от машины на землю отбросило. Я очнулся, глаза протер – смотрю, борт полыхает, горит натурально, как спичка. «Еж твою мать, – ору, – Вьюрок!» Ору, главное, а голоса своего не слышу. А он там уже головешка, наверное. Ну и заплакал я, как сопляк какой-то. Аж самому стыдно стало. Чувствую: кто-то меня с земли поднять пытается. А это взводный Лямка – лицо перекошенное, что-то говорит мне, орет даже, а я не слышу. Понял он, что не слышу, так он жестами объяснил – в сторону крайнего дома махнул, на автомат кивнул, мол, давай, сынок.
Я и дал. Короткими перебежками добрался – у крыльца устроился, осмотрелся. Домик завалящий. Напротив подобротнее будет – из силикатного кирпича. Сердце колотит в уши, что-то по лбу липкое потекло – я смахнул, а то кровь. Наших еще пятеро за мной подошли. Я кровь по лицу размазал, воздух втянул, нашим показал, что вхожу, прикройте, ребятки – и дверь вышиб на хрен. Вошел – не слышу ничего, думаю, на движение огонь открою. А там кухня сразу направо. По запаху понятно – лепешками картофельными пахнет. Поджаристыми. Вдруг слышу – отчетливо так, но тихо: «Сынок…» – словно утро, и мама меня будит. Думаю, это что за хрень такая? Головой потряс, цевье перехватил поудобнее, ладони ж вспотели, не дай бог не попаду. А оно снова: «Сынок…». Елы-палы. Я ж ничего не слышу. Я ж контуженный. И тут тень мелькнула. Я на тень и шандарахнул. Почти весь рожок отстрелял.
Зашел. На полу баба лежит. Больше никого. Осмотрелся я. Чисто. Наши тоже зашли. Бабу перевернули – шарф у нее вокруг шеи, знакомый, твою ж мать, шарф. Белый шарф. С узором – женщины и лошадки. Думаю, что за хрень. Хотя ведь в магазинах-то на сто километров один ассортимент. Вот бывает же. Маму сразу вспомнил – и так тепло стало, уютно, будто и нет никаких боевых заданий.
Тут у соседнего дома стрельба началась. Мы дом осмотрели, я тот шарф с бабы стянул и в карман сунул. Вроде как память. Стою, смотрю на нее, думаю: а жалко ли мне эту бабу? Да ни капли. Она ж с Запада. Это то еще отребье. И не хрен такой шарф, как у мамы, носить, позорить. Видно, она нашу машину и порешила. И Вьюрка с ней. Я со злости сплюнул, пнул тело в бочину – оно мягкое еще. И вышел.
А дальше понеслось... Много дней подряд врывались мы в поселки, стоящие в степи, и сжигали все живое, чтобы западная зараза не сожрала мир. Многие погибли. Но весь мой славный боевой путь в кармане лежал шарфик. Тот, что я добыл в первый же день. Стал он мне талисманом, что ли. И жив я остался. И взводный Лямка жив остался. Я лучший боец – так он и объявил в расположении части, едва вернулись. Перед всем строем объявил. Архонт, мол, доволен тобой, сынок. И наградил увольнительной.
Только вот мысли читать я так и не научился, видать. Сморозили не то что-то яйцеголовые. Ну и хрен с ними. Мороки меньше. И Вьюрка жалко, но я так думаю: все хорошо, я же послезавтра маму увижу, да?
МОТЫЛЕК
А потом пришел взводный Лямка и держал пламенную речь:
– Яйцеголовые ученые придумали такую суперхрень, чтобы читать мысли у людей. На прямой войне, к примеру, это штука бесполезная, там что – бей да коли, кто там перед тобой, неважно, а тут дело тонкое, надо же своих не задеть. Все же внутренние войска.
Лямка прохаживался вдоль шеренги и внимательно наблюдал. Взвод стоял навытяжку.
– Так вот, – продолжил капрал, – нужен доброволец. Яйцеголовые покопаются в мозгах, делов-то. Ничего там, в мозгах, не пострадает. А даже если и пострадает, – Лямка заржал, – вы по любому безголовые, так что на хер вам этот орган. Так-то. Всем вольно, – подытожил он.
Взвод расслабился, парни переминалась с ноги на ногу. Никто не вызывался. Приятель мой Вьюрок – первый справа в шеренге на построениях – толкнул меня в бок и просипел:
– Яйцеголовые дела не придумают, ну их на хрен, знаем-знаем.
Лямка прошелся туда-сюда еще раз, пообещал доппаек. Потом выложил козырь:
– А еще кое-кто может пойти в увольнительную...
Тут уже шагнул вперед я – в шеренге второй справа. Вьюрок попытался меня схватить за рукав, но впустую. Если мне что втемяшилось в голову, то все, пиши пропало.
– Рядовой? – торжественно выкрикнул капрал, рванув ко мне. – Ты готов? Твой номер?
– Так точно, – отрапортовал я. – Код 6054.
– Отважный говнюк, – резюмировал он, оглядев меня сверху донизу. – Послужишь пятому фему. Полчаса минут на сборы. Всем разойтись.
Все и разошлись.
– Идиот – бурчал Вьюрок уже в казарме, забирая мои игральные карты.
– Овощам, – говорит, – они ни к чему.
– Зачем вызвался?» – спрашивал Вьюрок.
– Маму повидать» – отвечал я.
Вьюрок молчал и больше ничего не спрашивал, сидел на койке, поглядывал, как я вещи собираю.
Лямка давно уже обещал, как потише будет, увольнительную дать. Но потише все не наступало. Из-за этих уродов западников я даже маму повидать не могу. Она скучает, наверное. Поначалу я писал ей, ответы приходили нечасто, но аккуратно – мол, живу, не тужу, все по-прежнему. Месяц назад на окраине фемы самодельным фугасом мне правую руку оторвало, доктора присобачили механическую – крошить зубы в самый раз, а вот писать – никак. Я попробовал, конечно, левой рукой накарябать хоть пару слов, но толку то… Не прочитаешь. Ну, я и попросил Вьюрка под диктовку написать. Про то, что руку потерял, мы, конечно, писать не стали. С той поры мама не отвечала.
Вообще, я до армии неуклюжий и тощий был. Но попал во внутренние войска. Откормили меня тут как надо – белок, овощи, таблетки всякие. Только с памятью что-то стало, вообще не помню лиц. Ну, почти. Вьюрок говорит, это от таблеток, что дают в казарме. То есть, я знаю, что люди в моей жизни были – до тех троих, что забривали меня. Но они какие-то бесплотные, дымные, растворяются. Ловлю память, а она ускользает – и вместо лиц вижу только нежно-бежевые пятна, пустоглазые, безносые, совсем гладенькие; чувствую только их присутствие рядом – от мамы, допустим, веяло теплом, весенним, таким слегка солнечным, и это ощущение осталось со мной. Еще вот шарф ее помню. И как забривали, помню. Меня баба забривала, офицерша Фитц. Легендарная личность в Пятой феме. Потом ее, кажется, списали, кончила она позорно, в психушке для ветеранов – Вьюрок говорил. Хотя он языком чесать мастер, может и придумал. А забривали меня… э-э-э… двенадцать лет тому назад. Что я помнил? Да мало чего. День как день. Сижу за кухонным столом, книгу читаю. Смотрю в окно. Солнце низкое. Стена дома напротив – выбеленный силикатный кирпич, пустая улица – время рабочее, ну и серая пыль на снегу, она тут годами копится, поблизости шахты, вся дрянь летит в поселок. На кухне мама со мной. Странное дело – я вот даже лица ее вспомнить не могу. Шарф ее помню, а лицо не помню. Только шарф. Что-то она там трет на кухне – может, картошку для лепешек – спиной ко мне. И вдруг – тук-тук. Бах-бах. Рекрутеры входят без стука, в полной амуниции – двое столбами остаются у дверей, чтоб не сбежал, а третья – офицерша Фитц – шагает на кухню. Глянул я исподлобья на ее рябое мякинное лицо и понял, что все, пипец – и ничего такого уже не избежать, со страху вцепился в обложку, аж костяшки пальцев побелели, но вида не подал, снова в книгу уткнулся. Круглолицая офицерша, широкие плечи и узкая задница, вытащила из планшета замусоленные листочки бумаги – адрес был последним в списке, пролистала.
– Восемь лет… Ага. Так. Покажи-ка зубы, рекрутенок.
Я аккуратно отложил книгу, поднял лицо, открыл рот. Она наклонилась, внимательно взглянула на зубы, зачем-то надавила пальцами в районе горла, там, где гланды, и покопалась в волосах:
– Вшей нет, вроде здоров. Вшивые пятому фему не нужны – гоготнула она и подмигнула: – Тощий-то какой, а! И кожа тонкая, аж светится вся. Как крылья у мотылька. Ну ладно, мясо у нас нарастят. Давай, на выход.
Мать перестала тереть картошку, но даже не обернулась. Почему так? Я не знаю. Может, просто не хотела видеть, как меня забирают. Я никогда не видел, чтобы она плакала, может и сейчас не хотела, чтобы видел? Я сполз со стула. Офицерша по-хозяйски осмотрелась, подобрала недоеденный бутерброд с тарелки, сунула в огромный зубастый рот и, чавкая, подтолкнул меня в спину к тем двум столбам, в прихожей. Рюкзачок уже стоял у двери – мама собрала с вечера. Мы же знали, что военные придут, и уже все обсудили. Мама говорила, что так лучше – и еда, и крыша над головой всегда. Еще она говорила, что это ненадолго. Ну да, кивал я.
Отец? А что отец? Отца я не помню – он погиб на границе фемы, когда мне было два года. Мать ничего не рассказывала про то, только одно сказала: западники растерзали его, как звери. Тот еще был служака. А мы и жили с мамой вдвоем на скромную ветеранскую пенсию.
Я взвалил рюкзак, еще раз поглядел в сторону кухни – мама смотрела в окно. И я видел ее шарф. Больше ничего. Только белый шарф. На нем такой странный узор – женщины тянут руки к небу и лошадки с пушистыми хвостами. Такой мирный, тихий: женщины и лошадки. Вот почему-то эти фигурки я запомнил, а мамино лицо нет.
Руки у меня были длинные, ноги тоже, – я уже говорил – тело тощее, ребра выпирали. Я много читал, но сейчас не помню, о чем. Читать лучше было украдкой, не то, чтобы в Пятой феме это было запрещено, но не поощрялось. Все говорили, что книги на шахте не нужны, толку в них ноль. Все смотрели телевизор. Но я читал. Много. Не помню, о чем, но читал. А как забрили – и читать перестал. Некогда. Война ведь. Хоть и подлая, скрытая.
Вот уже столько лет агрессоры с Запада пытались захватить нашу горячо любимую родину, организовывали диверсии. Они подонки, им там все неймется, баламутят наших граждан и требуют, чтобы великий порядок завершился, и Архонт сложил свои полномочия. Но Архонт – наш парень. Он любит свою родину, и покуда эти паскудники баламутят воду, ни фига он не уйдет. В последние дни бесчинства усилились, недовольные вышли на улицы. Но для этого есть мы. Мы быстро наводим порядок. Щитом опрокинул, дубинкой по ребрам – и поговори теперь, голубчик, о западных ценностях. Мигом зубы выбьем, шепелявить будешь. Раньше, говорят, лет двадцать тому назад, наша Пятая фема была тихим местом, в основном с Запада дрянь всякая лезла. А тут… Ну, вы поняли.
О чем это я? Ах, да. Собрался я, с Вьюрком по-братски обнялся, явился к взводному Лямке. Повезли меня в больничку. Ладно, думаю я. Была-не была. Терять нечего, а так хоть маму увижу. И Пятому фему еще послужу.
Три дня меня слушали, простукивали, присоски всякие ставили. На четвертый день положили в каталку, повезли. Я, конечно, очканул, как двенадцать лет назад, когда офицершу Фитц увидел. На фига, думаю, я в это дело ввязался? Потом они маску на меня надели, все поплыло, хорошо так стало… Ладно, думаю. Хрен с вами.
Очнулся, спрашивают сразу: номер жетона, войсковая часть. Я ответил четко. За дурака, что ли меня держат? Они закивали, медсестры снова на каталку меня взвалили, повезли в палату. Лежал еще три дня. Ел от пуза, спал – иногда новости по телику смотрел, там все про западников, как они распоясались. Вот, думаю про себя разное, мол, стоило Мотыльку из роты уехать, как они и распоясались.
А потом… Снова всякие присоски, провода, сажали напротив меня разных людей, спрашивали, о чем они думают. Я тужился, слушал, но так ничего и не выходило. Хрен их знает, говорю, о чем они думают». Снова присоски и провода, уколы всякие. Бились они почти месяц, но я так и не стал слышать людей.
– Время потеряли, – говорит их главный.
Он всегда в незастегнутом белом халате, накинутом прямо на китель. Звездочки полкана я, правда, рассмотрел.
Второй, суетливый такой, с лысиной, небольшого росточка, отвечает:
– Время не имеет значения. Совсем не имеет. Для нас, опоры и надежды Восточного протектората, нет ничего более бесполезного, чем время. Поэтому вот что попробуем, – и обращается ко мне: – У тебя, сынок, родные есть?
– Есть, – говорю, – мама. Лямка обещал, что после испытаний меня к ней отпустит на побывку. Ага.
Смотрю, у лысого глаз загорелся, и он полкана в сторону отвел, они о чем-то шептались, на меня поглядывали, слышу только: «…стрессовая ситуация… под наблюдением... Возможно, воспоминания детства». Ну, побазарили, а потом он ко мне подходит: ну ладно, пока свободен, рядовой, увольнительную получишь, отдохнешь, а там смотреть будем. Спасибо, сынок, и все такое. Родина не забудет.
Я аж заулыбался. Выписали меня, слава Богу, и овощем не стал, как Вьюрок обещал. Башка варит вроде. Прибыл я в часть под вечер, с приятелем своим Вьюрком по-братски обнялся, в картишки перекинулись. Вьюрок проигрался вчистую, потом говорит:
– Ты ж мысли мои, сволочь, читаешь, потому и проиграл я.
– Эх, – говорю, – брат, крутили там меня вертели, а мысли читать так и не научили. Так что не при делах я. Вот так.
Потом меня капрал Лямка к себе вызвал, уважительно так разговаривал, выписал документы – послезавтра отбываю на неделю, мол, поздравляю. Руку пожал.
Отбой случился, заснули все. А я лежу, в потолок смотрю. Надо же думаю, как все повернулось. Вроде ничего не получилось, а вон смотри-ка – капрал руку жмет, в отпуск наконец отправили. Чудно так. Под утро уже вдруг – завыло все, по тревоге поднимают. Я подскочил, сбрую нацепил быстро, – не спал же.
Построились. Светало. Лямка в полной амуниции опять держал пламенную речь перед шеренгой: нет у нас иного правителя, кроме Архонта, и мы солдаты его. Нет у нас иной родины, кроме Восточного протектората, и мы сыны его. Нет у нас иного командира, кроме капрала Лямки, и он, капрал Лямка, приказывает выступить на смежную территорию. Эти подонки западники, используя несознательность некоторых граждан нашей Родины, собрались с силами и собираются идти войной на Пятую фему – по данным разведки, будет их около десятка тысяч. Вьюрок прошептал: «Ни хера себе», – а шеренга заметно зашевелилась.
– Смирно! – заорал Лямка, – не ссать кипятком. Быть бдительным и неумолимым к врагам Восточного протектората – запомните, говнюки. И все получится. Ну с Богом, – вдруг как-то выдохнул капрал, махнул рукой и дал команду грузиться.
Шеренга рассыпалась, побежали к грузовикам. Я оглянулся только – а капрал все так же стоит на плацу, понуро и совсем не по-молодецки, как ранее – глядит, как мы грузимся. О чем он там на самом деле думал – хрен его поймешь, ну и ладно. Прыгнул я на борт, сел на скамейку, автомат на коленях пристроил и закемарил.
День тот помню смутно. Ехали очень долго по шоссе. Танки обгоняли – то мы их, то они нас. Я вполглаза смотрел. Наконец, встали у какого-то поселка. Стали с борта высаживаться – я с краю сидел, первым выпрыгнул. Выпрямился, потянулся. Еще пара солдат за мной выскочила – Вьюрок в глубине сидел, и чего-то он там замешкался. И тут так протяжно взвыло что-то, как шандарахнет – меня от машины на землю отбросило. Я очнулся, глаза протер – смотрю, борт полыхает, горит натурально, как спичка. «Еж твою мать, – ору, – Вьюрок!» Ору, главное, а голоса своего не слышу. А он там уже головешка, наверное. Ну и заплакал я, как сопляк какой-то. Аж самому стыдно стало. Чувствую: кто-то меня с земли поднять пытается. А это взводный Лямка – лицо перекошенное, что-то говорит мне, орет даже, а я не слышу. Понял он, что не слышу, так он жестами объяснил – в сторону крайнего дома махнул, на автомат кивнул, мол, давай, сынок.
Я и дал. Короткими перебежками добрался – у крыльца устроился, осмотрелся. Домик завалящий. Напротив подобротнее будет – из силикатного кирпича. Сердце колотит в уши, что-то по лбу липкое потекло – я смахнул, а то кровь. Наших еще пятеро за мной подошли. Я кровь по лицу размазал, воздух втянул, нашим показал, что вхожу, прикройте, ребятки – и дверь вышиб на хрен. Вошел – не слышу ничего, думаю, на движение огонь открою. А там кухня сразу направо. По запаху понятно – лепешками картофельными пахнет. Поджаристыми. Вдруг слышу – отчетливо так, но тихо: «Сынок…» – словно утро, и мама меня будит. Думаю, это что за хрень такая? Головой потряс, цевье перехватил поудобнее, ладони ж вспотели, не дай бог не попаду. А оно снова: «Сынок…». Елы-палы. Я ж ничего не слышу. Я ж контуженный. И тут тень мелькнула. Я на тень и шандарахнул. Почти весь рожок отстрелял.
Зашел. На полу баба лежит. Больше никого. Осмотрелся я. Чисто. Наши тоже зашли. Бабу перевернули – шарф у нее вокруг шеи, знакомый, твою ж мать, шарф. Белый шарф. С узором – женщины и лошадки. Думаю, что за хрень. Хотя ведь в магазинах-то на сто километров один ассортимент. Вот бывает же. Маму сразу вспомнил – и так тепло стало, уютно, будто и нет никаких боевых заданий.
Тут у соседнего дома стрельба началась. Мы дом осмотрели, я тот шарф с бабы стянул и в карман сунул. Вроде как память. Стою, смотрю на нее, думаю: а жалко ли мне эту бабу? Да ни капли. Она ж с Запада. Это то еще отребье. И не хрен такой шарф, как у мамы, носить, позорить. Видно, она нашу машину и порешила. И Вьюрка с ней. Я со злости сплюнул, пнул тело в бочину – оно мягкое еще. И вышел.
А дальше понеслось... Много дней подряд врывались мы в поселки, стоящие в степи, и сжигали все живое, чтобы западная зараза не сожрала мир. Многие погибли. Но весь мой славный боевой путь в кармане лежал шарфик. Тот, что я добыл в первый же день. Стал он мне талисманом, что ли. И жив я остался. И взводный Лямка жив остался. Я лучший боец – так он и объявил в расположении части, едва вернулись. Перед всем строем объявил. Архонт, мол, доволен тобой, сынок. И наградил увольнительной.
Только вот мысли читать я так и не научился, видать. Сморозили не то что-то яйцеголовые. Ну и хрен с ними. Мороки меньше. И Вьюрка жалко, но я так думаю: все хорошо, я же послезавтра маму увижу, да?
Нина Левина
МАЛЕНЬКИЙ СПУТНИК МЕРТВОЙ ПЛАНЕТЫ
Вокруг сумеречно и прохладно. Ветер стих, лишь отдельные дуновения чуть шевелят траву и листья. Старик медленно затягивается, выпускает клубы зеленоватого дыма и обводит задумчивым взглядом слушателей, собравшихся перед ним на поляне. Костер отбрасывает причудливые голубые тени на рассевшихся согласно рангу аборигенов. Впереди восседает косматый вождь с тремя любимыми женами. За ними располагаются родственники и приближенные особы, затем прислуга и остальные праздные жители из тех, кто не занят сейчас охотой, домашними делами и собиранием плодов. Дети в этом племени пользуются особой привилегией. Маленькими, шумными стайками они перемещаются между взрослыми, стремясь усесться поближе к старику, в который раз начинающему свой рассказ. За долгие годы пребывания на этом островке жизни он хорошо выучил местный язык – простой и незатейливый.
– Случилось это давным-давно, – начинает старик, и слушатели подскакивают от нетерпения – невысокие, в половину человеческого роста, мохнатые создания обожают слушать его истории. – Когда мое лицо еще не пересекали глубокие морщины, а коротко стриженые волосы отливали цветом воронова крыла.
Старик проводит рукой по длинным седым волосам, касается густой бороды, заботливо украшенной местными видами цветов, и продолжает:
– Я жил тогда на планете под названием Земля.
– Где это? – задает традиционный вопрос вождь.
– Далеко-далеко, на краю Млечного Пути, за сотнями звезд и тысячами планет, – отвечает старик и указывает рукой в серое небо.
Все, как по команде, поворачивают головы и смотрят на застывший в небе темный шар мертвой планеты. Из-за него пробиваются лучи оранжевого карлика, благодаря которым существует жизнь на этом крохотном спутнике. Одном из пяти. Слишком маленьком для проживания цивилизации и вполне достаточным для убежища землянина. В сером небе почти не видны звезды, лишь несколько бледных точек, и вождь первым начинает смеяться. Ему вторят остальные, и старик не мешает им, снисходительно улыбаясь. Насмеявшись, все снова становятся серьезными, готовыми слушать.
– Человечество только-только прекратило войны и обратило свой взгляд и помыслы на освоение космоса, – старик мечтательно смотрит в небо. – Далекие звездные миры, неизведанные планеты манили нас, как детей манят игрушки и сладости. Первые корабли, построенные совместными усилиями специалистов из разных стран, благополучно прошли испытания, преодолели пространство к ближайшим звездам и вернулись обратно. Это были дни большого всемирного праздника. Мы ликовали и не подозревали, что своим появлением в космосе привлекли внимание другой цивилизации – более развитой технологически и имеющей длительный опыт захвата чужих планет.
Старик добавляет трагические нотки в интонацию. Местные жители вскрикивают, хватая себя верхними конечностями за головы. Пользуясь суматохой, я подбираюсь немного ближе к рассказчику и останавливаюсь всего в нескольких метрах, надежно скрытая системой маскировки, делающей меня невидимой.
– Человечество принялось за постройку новых кораблей, а в это время целая флотилия вражеской армии собиралась у соседней звезды, готовясь к внезапному нападению, – старик хмурится. – Мы были обречены. Эта цивилизация состояла из злобных существ, не знающих жалости к другим гуманоидам. Внешне они сильно походили на землян. Только длинный хвост с ядовитым жалом на конце, служащий им оружием и подпоркой, и голова, покрытая круглыми колючками, отличали их от нашего облика. Ехидны – так впоследствии мы назвали пришельцев.
– Зачем они собирались напасть на землян? – спрашивает одна из жен вождя, по виду самая молоденькая.
– Все просто – им нужна была наша планета, – отвечает старик и начинает долгий рассказ о Земле.
В нем есть все – бескрайнее голубое небо с облаками, солнце, играющее бликами на поверхности водоемов, плодородная земля, дарящая богатые урожаи, тропические леса и ледяные пустыни, животный мир, поражающий разнообразием, и ресурсы, спрятанные в недрах. Аборигены охают, взмахивают конечностями, не в силах представить себе такое великолепие. Ведь мирок маленького спутника мертвой планеты весьма скуден и однообразен.
– Ехидны атаковали нас внезапно. Наблюдательные системы слишком поздно заметили вторжение, хотя заметь они раньше – это мало что изменило бы. Разве могли мы, младенцы, делающие только первые шаги, сравниться с опытными покорителями галактики. Земная армия отбивала атаки на грани возможностей. На орбиту были выведены боевые спутники, задействованы все системы воздушной и наземной обороны, – старик задумывается, сухой скрученный лист в его руках гаснет, рассыпается горсткой пепла, и один из слуг вождя заботливо прикуривает от костра новый и подает ему. – По крайней мере мы оказали достойное сопротивление и не сдались сразу.
В голосе старика звучит гордость. Действительно, земляне тогда действовали слаженно и самоотверженно перед лицом смертельной опасности. Но исход этой войны был предрешен.
– Атаки пришельцев не прекращались, люди гибли сотнями тысяч, а от нашей армии почти ничего не осталось. Тогда последними выжившими членами правительств было принято решение попытаться договориться с ехиднами о взаимном существовании на Земле. Мы даже готовы были предоставить им лучшие участки планеты, а сами уйти в резервацию. Туда, где они позволят нам жить и избежать тотального уничтожения, – старик горько улыбается. – Но надо было знать характер пришельцев. Безэмоциональные существа, лишенные сострадания и жалости. Единственное, что они позволили нам – это эвакуироваться.
– Что это значит? – спрашивает вождь.
– Погрузиться в корабли и покинуть планету навсегда. Не умереть сразу, а продлить агонию в безбрежном черном океане галактики, надеясь на чудо. По истечении срока эвакуации ехидны обещали десантироваться на захваченную Землю и провести тотальную зачистку оставшихся людей.
– Зачистку – это помыть? – уточняет вождь, хотя наверняка знает ответ.
– Это убить! – восклицает старик. – Уничтожить! Всех до единого!
Аборигены вскрикивают от ужаса. Малыши с плачем бросаются к мамам. Некоторые подбегают к старику и прижимаются к нему мохнатыми тельцами, выражая сочувствие.
– Ну, ну, не нужно так, – говорит он, нежно поглаживая их по головам. – Иначе не буду больше рассказывать.
Словно по команде вскрикивания и плач прекращаются. Все снова рассаживаются по местам. Ловлю себя на мысли, что жду продолжения истории с нескрываемым интересом. Старик оборачивается, смотрит сквозь меня на заросли, вздыхает и говорит:
– Увы, не всем хватило места на покинувших Землю кораблях. Многие вынуждены были остаться и обреченно ожидали смерти. Но нашлись и такие, кто остался по доброй воле, связанный клятвой и желанием отомстить захватчикам. Перед эвакуацией был разработан секретный план, и для его реализации создана группа высококлассных специалистов, в которую вошел и я, капитан спецподразделения кибервойск Алекс Шмидт. Нам оставили несколько космических челноков в надежде, что план удастся. Мы действовали быстро и четко, продолжая работать даже после высадки групп зачистки. К тому времени все было готово, и оставалось дождаться прибытия всех кораблей захватчиков. Мои товарищи погибали один за другим, но каждый из них знал, на что идет, и имел четкую инструкцию. Наконец, ехидны удостоверились, что планета свободна, и начали приземляться корабли с гражданским населением. Они действовали по-хозяйски, словно просто сменили один дом на другой, переехав в соседний район. Я не мог больше рисковать и наблюдал за ними из убежища, оборудованного в глубине океанских вод, дожидаясь подходящего момента.
– Тебе не было страшно? – спрашивает молоденькая жена вождя.
– Было, – кивает старик, – но не за себя. Со мной оставались жена и маленькая дочь, не пожелавшие эвакуироваться со всеми. Места в космическом челноке было достаточно для троих, и мы решили покинуть Землю вместе. Выжить или умереть, но только вместе. Между тем, сюрприз от землян был окончательно готов. Я лишь дождался подходящего момента и нажал нужную кнопку, потом погрузил семью в челнок и стартовал. Думаю, взлет нашего челнока оказался неожиданностью для захватчиков. Они не сбили его сразу, позволив мне уйти на довольно приличное расстояние и подготовиться ко входу в подпространство. Да, – старик жует губами, – не сразу. Заряд настиг нас при входе. Челнок тряхнуло так, что он чуть не рассыпался на части. Я втолкнул жену с дочкой в одну спасательную капсулу, а сам успел прыгнуть в другую, когда сработала система катапультирования...
Старик замолкает и делает глубокую затяжку. Его руки заметно дрожат, глаза увлажняются, или это просто играют отблески пламени костра.
– Что происходило дальше, я помню только с того момента, когда очнулся в одной из ваших пещер. Твой отец, о великий вождь, распорядился лечить и кормить пришельца, с грохотом и пламенем рухнувшего с неба. Я благодарен ему и всем вам за свое спасение! – Старик прижимает руку к груди и склоняет голову.
– Живи вечно! – благосклонно восклицает вождь, и остальные вторят ему.
– К сожалению, вечно не получится.
Резким движением старик распахивает накидку, сплетенную из высушенных трав. На его впалой груди отчетливо светятся красные цифры, отсчитывающие секунды в обратном направлении. Двадцать четыре, двадцать три, двадцать две – песчинки, уходящие в вечность и приближающие срок оплаты. Осталось чуть больше тридцати пяти тысяч часов, почти четыре земных года, по капле растворяющихся здесь, на маленьком спутнике мертвой планеты.
– Мы смогли заминировать Землю, – старик продолжает рассказ. – Те, кто остался тогда для выполнения спецзадания. Каждый из нас должен был стать одновременно таймером обратного отсчета и ключом для его остановки. Мы понимали, что земляне обречены на смерть, но слабая надежда на возвращение домой теплилась в сердцах покидающих родную планету. Запасов пищи и воды в кораблях при рациональном использовании могло хватить лишь на сорок лет. Весьма символично, если верить старым мудрым книгам. И таймеры были выставлены на сорок лет. Точнее, только один. Мой. Остальным не удалось дожить до момента активации, – он снова задумчиво смотрит в небо. – Как только исчезнет Земля, остановится и мое сердце.
– Ты умрешь? – вскрикивает молоденькая жена вождя и прижимается к мужу.
– Уйду в вечность вместе с родной планетой, – кивает старик, – и уверенностью, что пришельцы понесли наказание по заслугам.
– Ты не рассказал про жену и дочь, – важно напоминает вождь.
– Прости, чуть не забыл, – соглашается старик. – Я не знаю, что с ними случилось. Тогда, в момент входа в подпространство нас раскидало в разные стороны. Мою спасательную капсулу в одну, подбитый катер – в другую, а капсулу с женой и дочерью – в третью. Вероятно, это позволило сбить с толку преследователей, и я надеюсь, что моим близким удалось выжить, как и мне.
Он задумывается и снова затягивается. Зеленоватый дым окутывает морщинистое лицо, сплетается с седыми волосами и растворяется в воздухе.
– Моей дочери сейчас должно быть чуть меньше сорока земных лет, – старик вздыхает. – Иногда мне снится прекрасный сон, что ехидны исчезли с моей родной планеты, и земляне смогли вернуться. Чудом спасшиеся жена и дочь среди них, и все силы брошены на мои поиски. Моя взрослая дочь лично участвует в поисковых экспедициях и однажды явится сюда, в этот крохотный мирок и скажет: «Здравствуй, отец! Наконец-то я нашла тебя! Пора возвращаться домой!»
Старик замолкает, и в воздухе повисает тишина. Лишь костер иногда потрескивает, да слышно посапывание малышей, заснувших у матерей на руках. Как же далеко занесло тебя, Алекс Шмидт! Ни одна поисковая экспедиция и подумать не могла о маленьком спутнике мертвой планеты, где ты столько лет рассказываешь свои истории.
Я отключаю невидимость, делаю шаг вперед и говорю:
– Здравствуй, отец! Наконец-то я нашла тебя!
Аборигены вскакивают в волнении, малыши просыпаются и начинают плакать, поднимается шум, и только старик спокойно смотрит на меня, а его губы медленно раздвигаются в улыбке.
– Я долго ждал этого момента.
– Пора возвращаться домой!
Я шагаю по направлению к нему и не успеваю отскочить в сторону от летящего в меня сгустка энергии, выпущенного из старого земного оружия, выхваченного стариком из-под накидки.
– Что ты делаешь, папа?! – восклицаю я, делая удивленное лицо, но притворяться больше нет смысла. Энергозаряд повредил систему маскировки под земную женщину, и аборигены с криками ужаса смотрят на мой нервно подрагивающий хвост с жалом на конце. Колючки на голове приходят в движение, предчувствуя новую опасность. Кто мог подумать, что за столько лет оружие не разрядилось и все еще способно стрелять?
– У меня никогда не было дочери! – кричит старик, выпуская очередной заряд. – А сын с женой погибли в первый же день вашей атаки!
Неожиданно и умно с его стороны. Впрочем, я должна была предполагать нечто подобное от человека, придумавшего и запустившего в действие комбинацию, обрекшую нас на самое страшное – ожидание скорой смерти.
Мы – не ехидны, а волмеряне, сумевшие покинуть родную планету до того, как звезда Круст начала превращаться в красного гиганта. Мы спасались от неизбежной гибели. От планеты к планете – вот путь нашей цивилизации, по разным причинам не находящей постоянного пристанища в безбрежном космосе. К моменту захвата Земли мы были на грани истощения сил и ресурсов, и только отсталость землян в космических технологиях позволила нам стать хозяевами их планеты – настоящего чуда на окраине галактики. Планеты с такими условиями для жизни – большая редкость. Уж нам-то это хорошо известно! После покинутой Волмеры – Земля оказалась второй. Алекс Шмидт прав – волмеряне не испытывают эмоций, но что-то всколыхнулось в наших сердцах, когда мы высадились на Землю и почувствовали себя ее хозяевами. Сосуществование двух цивилизаций не представлялось возможным. Такие уроки мы вынесли из предыдущего горького опыта межпланетных скитаний и потому поставили жесткие условия землянам. Мы сами виноваты, что недооценили противника. Земляне создали целую сеть для уничтожения планеты, а пока мы зачищали и осваивали территорию, смогли подключиться к системам наших кораблей и запустили вирус. Он активировался сразу после неожиданного старта с планеты маленького корабля. Начался обратный отсчет времени запуска самоуничтожения нашего флота. Синхронно с этим включились таймеры по всей Земле.
Лучшие специалисты принялись работать над этой проблемой и пришли к выводу, что ключом активации и остановки процесса является человек, улетевший на последнем корабле. Программа настроена на нейронную сеть его мозга, и чтобы раскодировать ее, понадобится более сотни земных лет. А у нас оставалось лишь сорок. Обессиленные длительными перелетами, мы находились на краю галактики и знали, что позади нет пригодной для жизни планеты. А другая галактика была так далеко! Сорок лет – слишком мало для постройки нового флота, но достаточно, чтобы найти исчезнувшего человека. Волмеряне бросили все силы на его поиски. Сотни легких поисковых кораблей рассеялись в глубинах космоса, и у каждого на бортовом компьютере высвечивались цифры обратного отсчета, напоминая о скоротечности нашей жизни. Чуть больше тридцати пяти тысяч земных часов оставалось на моем таймере, когда я спустилась на маленький спутник мертвой планеты, не отмеченный на картах волмерян, как не представляющий интереса…
Старик не успевает выстрелить снова – мой хвост упруго взвивается и пронзает его жалом. Он всегда действует в случае крайней опасности самостоятельно и не подчиняется рассудку. Я в растерянности смотрю, как оседает на землю тело старого человека, которого так необходимо было доставить на Землю живым. Глаза его закрываются, а губы что-то беззвучно шепчут. Я бросаюсь к старику и распахиваю его накидку – цифры на груди стремительно сменяют друг друга и поочередно замирают на нулях…
Кажется, это конец, хотя до Земли отсюда слишком далеко. Сигнал активации от погибшего Алекса Шмидта еще долго будет мчаться сквозь космос. Тридцать пять тысяч земных часов пролетят гораздо быстрее. Зато мой корабль близко. Вместе с восхищенными аборигенами, задрав голову к серому небу, я наблюдаю, как яркая вспышка взрыва расцвечивает унылый пейзаж разноцветными огнями. Посадочный модуль, спрятанный в зарослях неподалеку, не создает такого эффекта – лишь громкий хлопок и столб черного дыма на мгновение отвлекают внимание от яркого небесного фейерверка.
Эмоции – это действительно лишнее. Хорошо, что мы избавились от этого рудимента много поколений назад. Иначе я бы сошла с ума от мысли, что проклятый хвост оставил лишь тридцать пять тысяч земных часов жизни моей цивилизации.
Когда гаснут последние всполохи, я оглядываю притихших аборигенов. Что ж, времени у меня теперь много. Лететь не на чем, а вскоре будет и некуда. Маленький спутник мертвой планеты – вот и весь мой удел. Я усаживаюсь рядом с костром, предупредительно уложив хвост жалом по направлению к вождю, и говорю на местном наречии:
– Я тоже знаю много интересных историй.
Подумав, он делает знак слугам. Четверо поспешно оттаскивают куда-то труп старика, а двое кладут к моим ногам несколько привлекательных на вид плодов. Надкусываю один из них и решаю, что есть можно, поднимаю глаза к небу и начинаю свой рассказ.
МАЛЕНЬКИЙ СПУТНИК МЕРТВОЙ ПЛАНЕТЫ
Вокруг сумеречно и прохладно. Ветер стих, лишь отдельные дуновения чуть шевелят траву и листья. Старик медленно затягивается, выпускает клубы зеленоватого дыма и обводит задумчивым взглядом слушателей, собравшихся перед ним на поляне. Костер отбрасывает причудливые голубые тени на рассевшихся согласно рангу аборигенов. Впереди восседает косматый вождь с тремя любимыми женами. За ними располагаются родственники и приближенные особы, затем прислуга и остальные праздные жители из тех, кто не занят сейчас охотой, домашними делами и собиранием плодов. Дети в этом племени пользуются особой привилегией. Маленькими, шумными стайками они перемещаются между взрослыми, стремясь усесться поближе к старику, в который раз начинающему свой рассказ. За долгие годы пребывания на этом островке жизни он хорошо выучил местный язык – простой и незатейливый.
– Случилось это давным-давно, – начинает старик, и слушатели подскакивают от нетерпения – невысокие, в половину человеческого роста, мохнатые создания обожают слушать его истории. – Когда мое лицо еще не пересекали глубокие морщины, а коротко стриженые волосы отливали цветом воронова крыла.
Старик проводит рукой по длинным седым волосам, касается густой бороды, заботливо украшенной местными видами цветов, и продолжает:
– Я жил тогда на планете под названием Земля.
– Где это? – задает традиционный вопрос вождь.
– Далеко-далеко, на краю Млечного Пути, за сотнями звезд и тысячами планет, – отвечает старик и указывает рукой в серое небо.
Все, как по команде, поворачивают головы и смотрят на застывший в небе темный шар мертвой планеты. Из-за него пробиваются лучи оранжевого карлика, благодаря которым существует жизнь на этом крохотном спутнике. Одном из пяти. Слишком маленьком для проживания цивилизации и вполне достаточным для убежища землянина. В сером небе почти не видны звезды, лишь несколько бледных точек, и вождь первым начинает смеяться. Ему вторят остальные, и старик не мешает им, снисходительно улыбаясь. Насмеявшись, все снова становятся серьезными, готовыми слушать.
– Человечество только-только прекратило войны и обратило свой взгляд и помыслы на освоение космоса, – старик мечтательно смотрит в небо. – Далекие звездные миры, неизведанные планеты манили нас, как детей манят игрушки и сладости. Первые корабли, построенные совместными усилиями специалистов из разных стран, благополучно прошли испытания, преодолели пространство к ближайшим звездам и вернулись обратно. Это были дни большого всемирного праздника. Мы ликовали и не подозревали, что своим появлением в космосе привлекли внимание другой цивилизации – более развитой технологически и имеющей длительный опыт захвата чужих планет.
Старик добавляет трагические нотки в интонацию. Местные жители вскрикивают, хватая себя верхними конечностями за головы. Пользуясь суматохой, я подбираюсь немного ближе к рассказчику и останавливаюсь всего в нескольких метрах, надежно скрытая системой маскировки, делающей меня невидимой.
– Человечество принялось за постройку новых кораблей, а в это время целая флотилия вражеской армии собиралась у соседней звезды, готовясь к внезапному нападению, – старик хмурится. – Мы были обречены. Эта цивилизация состояла из злобных существ, не знающих жалости к другим гуманоидам. Внешне они сильно походили на землян. Только длинный хвост с ядовитым жалом на конце, служащий им оружием и подпоркой, и голова, покрытая круглыми колючками, отличали их от нашего облика. Ехидны – так впоследствии мы назвали пришельцев.
– Зачем они собирались напасть на землян? – спрашивает одна из жен вождя, по виду самая молоденькая.
– Все просто – им нужна была наша планета, – отвечает старик и начинает долгий рассказ о Земле.
В нем есть все – бескрайнее голубое небо с облаками, солнце, играющее бликами на поверхности водоемов, плодородная земля, дарящая богатые урожаи, тропические леса и ледяные пустыни, животный мир, поражающий разнообразием, и ресурсы, спрятанные в недрах. Аборигены охают, взмахивают конечностями, не в силах представить себе такое великолепие. Ведь мирок маленького спутника мертвой планеты весьма скуден и однообразен.
– Ехидны атаковали нас внезапно. Наблюдательные системы слишком поздно заметили вторжение, хотя заметь они раньше – это мало что изменило бы. Разве могли мы, младенцы, делающие только первые шаги, сравниться с опытными покорителями галактики. Земная армия отбивала атаки на грани возможностей. На орбиту были выведены боевые спутники, задействованы все системы воздушной и наземной обороны, – старик задумывается, сухой скрученный лист в его руках гаснет, рассыпается горсткой пепла, и один из слуг вождя заботливо прикуривает от костра новый и подает ему. – По крайней мере мы оказали достойное сопротивление и не сдались сразу.
В голосе старика звучит гордость. Действительно, земляне тогда действовали слаженно и самоотверженно перед лицом смертельной опасности. Но исход этой войны был предрешен.
– Атаки пришельцев не прекращались, люди гибли сотнями тысяч, а от нашей армии почти ничего не осталось. Тогда последними выжившими членами правительств было принято решение попытаться договориться с ехиднами о взаимном существовании на Земле. Мы даже готовы были предоставить им лучшие участки планеты, а сами уйти в резервацию. Туда, где они позволят нам жить и избежать тотального уничтожения, – старик горько улыбается. – Но надо было знать характер пришельцев. Безэмоциональные существа, лишенные сострадания и жалости. Единственное, что они позволили нам – это эвакуироваться.
– Что это значит? – спрашивает вождь.
– Погрузиться в корабли и покинуть планету навсегда. Не умереть сразу, а продлить агонию в безбрежном черном океане галактики, надеясь на чудо. По истечении срока эвакуации ехидны обещали десантироваться на захваченную Землю и провести тотальную зачистку оставшихся людей.
– Зачистку – это помыть? – уточняет вождь, хотя наверняка знает ответ.
– Это убить! – восклицает старик. – Уничтожить! Всех до единого!
Аборигены вскрикивают от ужаса. Малыши с плачем бросаются к мамам. Некоторые подбегают к старику и прижимаются к нему мохнатыми тельцами, выражая сочувствие.
– Ну, ну, не нужно так, – говорит он, нежно поглаживая их по головам. – Иначе не буду больше рассказывать.
Словно по команде вскрикивания и плач прекращаются. Все снова рассаживаются по местам. Ловлю себя на мысли, что жду продолжения истории с нескрываемым интересом. Старик оборачивается, смотрит сквозь меня на заросли, вздыхает и говорит:
– Увы, не всем хватило места на покинувших Землю кораблях. Многие вынуждены были остаться и обреченно ожидали смерти. Но нашлись и такие, кто остался по доброй воле, связанный клятвой и желанием отомстить захватчикам. Перед эвакуацией был разработан секретный план, и для его реализации создана группа высококлассных специалистов, в которую вошел и я, капитан спецподразделения кибервойск Алекс Шмидт. Нам оставили несколько космических челноков в надежде, что план удастся. Мы действовали быстро и четко, продолжая работать даже после высадки групп зачистки. К тому времени все было готово, и оставалось дождаться прибытия всех кораблей захватчиков. Мои товарищи погибали один за другим, но каждый из них знал, на что идет, и имел четкую инструкцию. Наконец, ехидны удостоверились, что планета свободна, и начали приземляться корабли с гражданским населением. Они действовали по-хозяйски, словно просто сменили один дом на другой, переехав в соседний район. Я не мог больше рисковать и наблюдал за ними из убежища, оборудованного в глубине океанских вод, дожидаясь подходящего момента.
– Тебе не было страшно? – спрашивает молоденькая жена вождя.
– Было, – кивает старик, – но не за себя. Со мной оставались жена и маленькая дочь, не пожелавшие эвакуироваться со всеми. Места в космическом челноке было достаточно для троих, и мы решили покинуть Землю вместе. Выжить или умереть, но только вместе. Между тем, сюрприз от землян был окончательно готов. Я лишь дождался подходящего момента и нажал нужную кнопку, потом погрузил семью в челнок и стартовал. Думаю, взлет нашего челнока оказался неожиданностью для захватчиков. Они не сбили его сразу, позволив мне уйти на довольно приличное расстояние и подготовиться ко входу в подпространство. Да, – старик жует губами, – не сразу. Заряд настиг нас при входе. Челнок тряхнуло так, что он чуть не рассыпался на части. Я втолкнул жену с дочкой в одну спасательную капсулу, а сам успел прыгнуть в другую, когда сработала система катапультирования...
Старик замолкает и делает глубокую затяжку. Его руки заметно дрожат, глаза увлажняются, или это просто играют отблески пламени костра.
– Что происходило дальше, я помню только с того момента, когда очнулся в одной из ваших пещер. Твой отец, о великий вождь, распорядился лечить и кормить пришельца, с грохотом и пламенем рухнувшего с неба. Я благодарен ему и всем вам за свое спасение! – Старик прижимает руку к груди и склоняет голову.
– Живи вечно! – благосклонно восклицает вождь, и остальные вторят ему.
– К сожалению, вечно не получится.
Резким движением старик распахивает накидку, сплетенную из высушенных трав. На его впалой груди отчетливо светятся красные цифры, отсчитывающие секунды в обратном направлении. Двадцать четыре, двадцать три, двадцать две – песчинки, уходящие в вечность и приближающие срок оплаты. Осталось чуть больше тридцати пяти тысяч часов, почти четыре земных года, по капле растворяющихся здесь, на маленьком спутнике мертвой планеты.
– Мы смогли заминировать Землю, – старик продолжает рассказ. – Те, кто остался тогда для выполнения спецзадания. Каждый из нас должен был стать одновременно таймером обратного отсчета и ключом для его остановки. Мы понимали, что земляне обречены на смерть, но слабая надежда на возвращение домой теплилась в сердцах покидающих родную планету. Запасов пищи и воды в кораблях при рациональном использовании могло хватить лишь на сорок лет. Весьма символично, если верить старым мудрым книгам. И таймеры были выставлены на сорок лет. Точнее, только один. Мой. Остальным не удалось дожить до момента активации, – он снова задумчиво смотрит в небо. – Как только исчезнет Земля, остановится и мое сердце.
– Ты умрешь? – вскрикивает молоденькая жена вождя и прижимается к мужу.
– Уйду в вечность вместе с родной планетой, – кивает старик, – и уверенностью, что пришельцы понесли наказание по заслугам.
– Ты не рассказал про жену и дочь, – важно напоминает вождь.
– Прости, чуть не забыл, – соглашается старик. – Я не знаю, что с ними случилось. Тогда, в момент входа в подпространство нас раскидало в разные стороны. Мою спасательную капсулу в одну, подбитый катер – в другую, а капсулу с женой и дочерью – в третью. Вероятно, это позволило сбить с толку преследователей, и я надеюсь, что моим близким удалось выжить, как и мне.
Он задумывается и снова затягивается. Зеленоватый дым окутывает морщинистое лицо, сплетается с седыми волосами и растворяется в воздухе.
– Моей дочери сейчас должно быть чуть меньше сорока земных лет, – старик вздыхает. – Иногда мне снится прекрасный сон, что ехидны исчезли с моей родной планеты, и земляне смогли вернуться. Чудом спасшиеся жена и дочь среди них, и все силы брошены на мои поиски. Моя взрослая дочь лично участвует в поисковых экспедициях и однажды явится сюда, в этот крохотный мирок и скажет: «Здравствуй, отец! Наконец-то я нашла тебя! Пора возвращаться домой!»
Старик замолкает, и в воздухе повисает тишина. Лишь костер иногда потрескивает, да слышно посапывание малышей, заснувших у матерей на руках. Как же далеко занесло тебя, Алекс Шмидт! Ни одна поисковая экспедиция и подумать не могла о маленьком спутнике мертвой планеты, где ты столько лет рассказываешь свои истории.
Я отключаю невидимость, делаю шаг вперед и говорю:
– Здравствуй, отец! Наконец-то я нашла тебя!
Аборигены вскакивают в волнении, малыши просыпаются и начинают плакать, поднимается шум, и только старик спокойно смотрит на меня, а его губы медленно раздвигаются в улыбке.
– Я долго ждал этого момента.
– Пора возвращаться домой!
Я шагаю по направлению к нему и не успеваю отскочить в сторону от летящего в меня сгустка энергии, выпущенного из старого земного оружия, выхваченного стариком из-под накидки.
– Что ты делаешь, папа?! – восклицаю я, делая удивленное лицо, но притворяться больше нет смысла. Энергозаряд повредил систему маскировки под земную женщину, и аборигены с криками ужаса смотрят на мой нервно подрагивающий хвост с жалом на конце. Колючки на голове приходят в движение, предчувствуя новую опасность. Кто мог подумать, что за столько лет оружие не разрядилось и все еще способно стрелять?
– У меня никогда не было дочери! – кричит старик, выпуская очередной заряд. – А сын с женой погибли в первый же день вашей атаки!
Неожиданно и умно с его стороны. Впрочем, я должна была предполагать нечто подобное от человека, придумавшего и запустившего в действие комбинацию, обрекшую нас на самое страшное – ожидание скорой смерти.
Мы – не ехидны, а волмеряне, сумевшие покинуть родную планету до того, как звезда Круст начала превращаться в красного гиганта. Мы спасались от неизбежной гибели. От планеты к планете – вот путь нашей цивилизации, по разным причинам не находящей постоянного пристанища в безбрежном космосе. К моменту захвата Земли мы были на грани истощения сил и ресурсов, и только отсталость землян в космических технологиях позволила нам стать хозяевами их планеты – настоящего чуда на окраине галактики. Планеты с такими условиями для жизни – большая редкость. Уж нам-то это хорошо известно! После покинутой Волмеры – Земля оказалась второй. Алекс Шмидт прав – волмеряне не испытывают эмоций, но что-то всколыхнулось в наших сердцах, когда мы высадились на Землю и почувствовали себя ее хозяевами. Сосуществование двух цивилизаций не представлялось возможным. Такие уроки мы вынесли из предыдущего горького опыта межпланетных скитаний и потому поставили жесткие условия землянам. Мы сами виноваты, что недооценили противника. Земляне создали целую сеть для уничтожения планеты, а пока мы зачищали и осваивали территорию, смогли подключиться к системам наших кораблей и запустили вирус. Он активировался сразу после неожиданного старта с планеты маленького корабля. Начался обратный отсчет времени запуска самоуничтожения нашего флота. Синхронно с этим включились таймеры по всей Земле.
Лучшие специалисты принялись работать над этой проблемой и пришли к выводу, что ключом активации и остановки процесса является человек, улетевший на последнем корабле. Программа настроена на нейронную сеть его мозга, и чтобы раскодировать ее, понадобится более сотни земных лет. А у нас оставалось лишь сорок. Обессиленные длительными перелетами, мы находились на краю галактики и знали, что позади нет пригодной для жизни планеты. А другая галактика была так далеко! Сорок лет – слишком мало для постройки нового флота, но достаточно, чтобы найти исчезнувшего человека. Волмеряне бросили все силы на его поиски. Сотни легких поисковых кораблей рассеялись в глубинах космоса, и у каждого на бортовом компьютере высвечивались цифры обратного отсчета, напоминая о скоротечности нашей жизни. Чуть больше тридцати пяти тысяч земных часов оставалось на моем таймере, когда я спустилась на маленький спутник мертвой планеты, не отмеченный на картах волмерян, как не представляющий интереса…
Старик не успевает выстрелить снова – мой хвост упруго взвивается и пронзает его жалом. Он всегда действует в случае крайней опасности самостоятельно и не подчиняется рассудку. Я в растерянности смотрю, как оседает на землю тело старого человека, которого так необходимо было доставить на Землю живым. Глаза его закрываются, а губы что-то беззвучно шепчут. Я бросаюсь к старику и распахиваю его накидку – цифры на груди стремительно сменяют друг друга и поочередно замирают на нулях…
Кажется, это конец, хотя до Земли отсюда слишком далеко. Сигнал активации от погибшего Алекса Шмидта еще долго будет мчаться сквозь космос. Тридцать пять тысяч земных часов пролетят гораздо быстрее. Зато мой корабль близко. Вместе с восхищенными аборигенами, задрав голову к серому небу, я наблюдаю, как яркая вспышка взрыва расцвечивает унылый пейзаж разноцветными огнями. Посадочный модуль, спрятанный в зарослях неподалеку, не создает такого эффекта – лишь громкий хлопок и столб черного дыма на мгновение отвлекают внимание от яркого небесного фейерверка.
Эмоции – это действительно лишнее. Хорошо, что мы избавились от этого рудимента много поколений назад. Иначе я бы сошла с ума от мысли, что проклятый хвост оставил лишь тридцать пять тысяч земных часов жизни моей цивилизации.
Когда гаснут последние всполохи, я оглядываю притихших аборигенов. Что ж, времени у меня теперь много. Лететь не на чем, а вскоре будет и некуда. Маленький спутник мертвой планеты – вот и весь мой удел. Я усаживаюсь рядом с костром, предупредительно уложив хвост жалом по направлению к вождю, и говорю на местном наречии:
– Я тоже знаю много интересных историй.
Подумав, он делает знак слугам. Четверо поспешно оттаскивают куда-то труп старика, а двое кладут к моим ногам несколько привлекательных на вид плодов. Надкусываю один из них и решаю, что есть можно, поднимаю глаза к небу и начинаю свой рассказ.